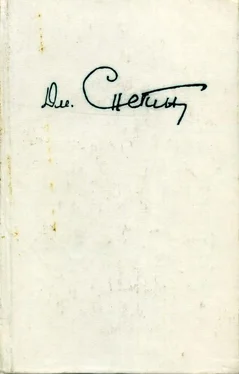— Наркозу на него не хватит.
«Вся сила в наркозе... жизнь моя и смерть моя — в наркозе. Весь наркоз израсходован», — лениво ворочается в голове тупая мысль. И вдруг вспышка сознания: жить... жить.
— Спасите-е! — молит Фурсов.
— Спасем, рыжий, спасем, — делает свое дело хирург. И приказывает: — Маску ему!
Что-то злое, косматое, дремучее беззвучно ударяет по затылку, увлекает за собой в бездну.
...Проснулся Фурсов внезапно, как если бы и не спал. Возле него — Федор. «Все?» — спрашивает глазами Владимир. «Все», — отвечает глазами Федор. И протягивает папиросу.
— Кури!
— Не курю.
— Тогда подкрепись, — подносит ему Федор стакан водки. — Говорят, помогает.
Фурсов пьет, с хрустом разгрызая кусочек сахара. Через минуту ему становится нестерпимо жарко. Дурно. Чья-то женская ладонь ложится на его воспаленный лоб:
— Он весь в огне!.. Сепсис!
Легкие, торопливые шаги. Провал. Спокойный размеренный шаг. Легкий, торопливый — не в ногу. Провал. У изголовья стоит хирург Ильин.
Ильин слышит запах водки, видит виноватое лицо санитара, сердится:
— При чем тут сепсис? Выпили по случаю благополучного исхода операции. — И Фурсову: — Ну и молодец. Держись.
Их взгляды встретились. Взгляды сказали: всем нам надо держаться. И поддерживать друг друга. Эту клятву Фурсов дал в полном понимании ее значения. Но едва ли сознавал он в ту минуту, что останется без ноги. И что в плену. Не мог он предвидеть и грядущего.
Солнце закатилось. Это Фурсов определил по тому, что в палате стало тихо. Никто не стонал, не ворочался. И свет однородный, рассеянный, без ослепительных вспышек — на оконном стекле, на никеле дверных ручек, на узком серебряном кольце санитарки тети Кати. Когда садилось солнце, все почему-то умолкали.
Он увидел тетю Катю после операции, попав в эту палату, а кажется, знает ее давным-давно. Она красива и смугла, как цыганка. В меру полна, в меру стройна. Ей за сорок, а двигается тетя Катя легко, проворно, бесшумно, смахивая невидимую пыль с тумбочек и подоконников, поправляя салфетки и одеяла. И только в глуби глаз затаилась настороженность, свойственная человеку, который живет во враждебном мире и должен постоянно опасаться. Фурсов следит за нею и пытается понять, чем она встревожена.
— Тетя Катя! — окликает он санитарку.
Она подходит к его койке быстро и плавно, спрашивает:
— Тебе чего?
— А вы красивая.
— Он еще смеется, — укоризненно качает головой женщина.
Владимир и не думал смеяться. Просто слишком долго он жил со стиснутыми зубами.
— Почему бы мне плакать?
— Попадешь, не приведи бог, в Южный городок, узнаешь, почему.
За те часы, что он находится в палате, Фурсов узнал: здесь, в госпитале, они считают тебя на правах раненых. А в Южном городке — военнопленные. Его в полку учили, и он учил солдат: красноармейцы живыми в плен не сдаются. Для него это не только слова... Охота поозоровать бесследно пропадает. Владимир уходит в себя и в который раз пытается осмыслить, где он и что с ним. И не может понять, не может согласиться, что фрицы, а не командир полка Дулькейт распоряжаются его судьбой, судьбой его товарищей, судьбой всего Бреста. «Тетя Катя, скажите, что это не так!» — кровать жалобно скрипит под ним.
Тетя Катя не слышит, моет проходы синей влажной тряпкой. Тряпка оставляет темные полосы на деревянном полу. Вдруг тетя Катя замирает, меняется в лице.
— Идут!
Фурсов напрягает слух. «Верно — идут! Кто?.. Не знаешь — кто?! Они — фашисты!» Он слышит несколько раз повторенное на иностранный лад слово «комендант». Напрягся, вытянулся в ожидании — вот, вот они войдут. Впервые он увидит их не в пылу сражения, а просто так...
Они задерживаются в соседней палате... медленно идут твердым шагом по коридору. Не торопятся, как у себя дома. Напряжение нарастает по мере их приближения. Фурсов хватается за спинку кровати, и ему кажется, что прохладный металлический прут начинает плавиться в его руках.
Они вошли, наконец. Сколько их, какие они, как одеты — Владимир не замечает. Он видит своего командира полка. Видит Дулькейта. Он уважает командира полка — за строгую справедливость, за высокую военную культуру, за безукоризненную неподкупную честность. И командир полка знает его, сержанта Фурсова. И, кажется, уважает...
Дулькейт знал всех бойцов. И тех, кто нерадив, и тех, кто службу нес не за страх, а за совесть. А Фурсов был образцовым бойцом и отменным спортсменом. На втором году службы его назначили заместителем политрука минометной батареи. Таких командир полка не только знал, а и выделял. Выделял он и Фурсова.
Читать дальше