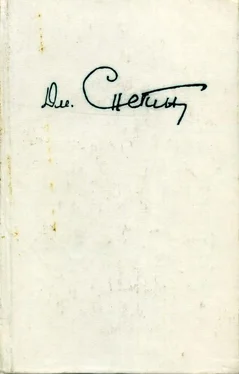Засыпает Фурсов. Спит. В тени танка, подбитого полковником.
Спит Фурсов. Спит. Над ним разгорается день. Испугавшись солнца, тень спряталась за танк. И Фурсов стал виден всему миру — рыжий, израненный. Непобежденный. Но он об этом не догадывается, не знает. О многом не догадывается Владимир Фурсов. Он спит. Над ним поют птицы, шумит тревожно рожь; все жарче, все ярче светит в небе солнце. А он спит, набирается сил. Многое предстоит ему впереди. Ему надо хорошо выспаться.
Лучше бы тогда он не проснулся, скажет малодушный. Но малодушные, к счастью, редко встречаются там, где лежит сейчас и видит сны сержант Фурсов. Рыжий, израненный, непобежденный *.
Рожь поднялась, распрямилась. Рваными ранами чернели на ней воронки от разрывов снарядов и мин; рубчатые следы от танков. Рожь тревожно шумела, но Аня не слышала *. Как велел ей дядя Шпак, Аня перебегала от одного распростертого на земле красноармейца к другому, припадала ухом к тому месту, где у человека сердце, слушала — не бьется ли.
Недалеко от искалеченной разрывом снаряда ольхи она увидела красноармейца. Рыжего, как подсолнух. Возле него была воронка. Из той воронки тоненькой струйкой текла вода, и вокруг образовалось озерцо. Озерцо блестело под солнцем, как битое стекло, и над ним кружились стрекозы. Красноармеец лежал в воде, лицо его потемнело от запекшейся крови и ссадин, отчего мохнатые ресницы казались золотисто-седыми. Раздробленная правая нога была непонятной силой заломлена так, что ступня в рваном ботинке оказалась над головой: Аня упала на колени и заплакала в голос — безутешно и горько. Она плакала, а сама пыталась вытереть платком кровь на лице красноармейца.
У того дрогнула бровь.
— Ой, страхи-то... — отпрянула Аня.
Фурсов открыл глаза и увидел девушку со смуглыми щеками. Таких красивых и ладно сбитых девушек он никогда прежде не встречал! «Примерещилось мне это», — подумал Владимир и спросил:
— Кто ты? — его спекшиеся губы едва разомкнулись и пропустили сиплый, невнятный звук.
— А? — подалась к нему девушка, улыбаясь сквозь слезы.
«Она здесь, значит, фашистов турнули. Если бы не выгнали, она не улыбалась бы, ее просто не было бы!» — Старательно выговаривая каждую букву, снова спросил:
— Кто ты?
— Аня я... Аня! — откликнулась девушка, и на ее щеках заиграли ямочки.
— Где они?
Аня пристально глянула на раненого, перестала улыбаться.
— Ушли.
«Почему ушли? Их турнули!»
— Куда?
— Туда! — слабым движением руки Аня показала на восток. Что-то изменилось в лице Фурсова, потому что Аня, привстав на колени, заспешила, затараторила:
— Ты не бойся, они ушли. Похоронили своих убитых и ушли. А мы решили похоронить наших. А тех, кто живой — спасти. Так велел дядя Шпак. Вон за мной идут. Я впереди, выискиваю... А немцы ушли. Только кухня у них здесь, да машины по шоссе бегают.
Аня говорит... говорит без передышки. Но Владимир не слышит ее. При слове «кухня» на него хлынул запах пережженного лука, и он задохнулся.
— Пить... пить!
— Молока? Кислого или свежего?
«Она смеется надо мной... Или все это наваждение... наваждение... Да приди ты в себя, рыжий увалень, поднимись!.. Где Копин? Где полковник? Где все?»
Он видит, как, проворно поднявшись, Аня побежала куда-то. Бежит подол платья, бегут босые ноги, облитые солнцем. Стоит повести глазами, чтобы увидеть всю девушку, и нестерпимая боль пронзает его, слепят багровые, блестящие блики. Фурсову становится страшно — одному. «Не уходи, я не хотел тебя обидеть, не уходи!» — кричит он, но никто его не слышит. И сам он не слышит своего голоса. Тело его цепенеет, сознание заволакивает тьмой.
— Вот он, вот он! — Аня склоняется над раненым бойцом и поит его свежим молоком прямо из кринки. Молоко холодное, из погреба, вскипает на губах. А раненый пьет, пьет, пьет. Пьет.
— Хватит! — отстраняет Аню бородатый мужик.
«Он кто?» — спрашивает Аню глазами Владимир.
— Не бойся, — смеется Аня. — Я же тебе говорила, это дядя Яков Шпак. А это бабушка...
Аня не успевает назвать имя, как старуха начинает причитать:
— Ой, нехристи... ой, басурманы... Как они тебя, сынок... А с виду тоже люди... Ой, нехристи!
Фурсов догадывается: с ним случилось что-то непоправимое. И ему становится совсем плохо. Его охватывает беспокойство. «Ты теперь мой заместитель по политической части, сказал мне полковник, и я это помню. Но этого мало, я должен действовать. Я должен сделать свое последнее дело на земле. Почему последнее? Дел впереди много. Но сейчас... сейчас. А, черт, не вспомню: самое важное... а, черт!»
Читать дальше