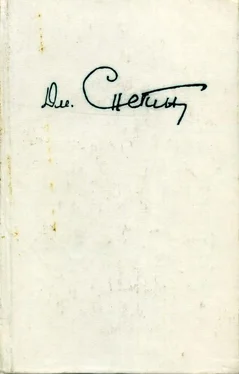Очнулся оттого, что кто-то мохнато и тепло шевельнулся рядом. Открыл глаза. Перед ним сидел заяц и водил ушами. Бред какой-то. Откуда здесь, на Барибаше, зайцы? Да и не зайца, а гуся убил Короленко. Но это заяц: длинные уши и круглые добрые глаза. Льнет к щеке, как будто мы — старинные приятели. Ни страха, ни удивления. Сама доброта. И, как у друга, просит взглядом защиты... Или все это мне мерещится? Я сплю и вижу заячий сон. Все сон — ольха и солнце, утонувшее во ржи. И те вон в небе пепельные, дотлевающие в костре заката облака. И тишина. Сейчас я схвачу зайца за уши и, если он не убежит, значит, все мне мерещится.
Фурсов шевельнулся. Заяц замер, навострил уши. Смешно подпрыгнул и побежал, припадая на перебитую осколком снаряда лапу. Последний раз мелькнул высоко вскинутый зад, похожий на солнечный блик, трепещущий в пруду... Наваждение пропало. Все встало на свое место: и то, как полковник бросился под танк, а он хотел закрыть его собой, и то, как что-то мягкое ударило его по мозгам, а боли не было... Сейчас болело все тело. Но страшнее боли мучила жажда. Не только во рту, в нем самом все высохло и покрылось колючим пыльным нагаром. Пусть война, пусть бомбы, пусть танки — все не так страшно, как то, что хочется пить. Надо отыскать лунку, которую он отрыл под ольхой. В ней теперь накопилась вода. Много воды.
Владимир пытается подняться. И не может. Он видит себя как бы со стороны, как в кино. Он лежит на правом боку, прижимаясь щекой к чему-то липкому и в то же время комковатому. Он косит глазом и не может разглядеть, что это. Что-то похожее на разорванный ботинок. Почему над головой ботинок? Чей? А, черт, как все болит. Боль какая-то странная, она вездесуща, и невозможно определить, где больнее. А сильнее боли — пить... пить... пить! Он опрокидывается ничком и сосет, как материнскую грудь, влажную землю. Ему становится легче. Не там легче, где тело, а там, где сознание.
Боль определилась, нашла свое место. Она сбоку, рядом. Острая, невыносимая. Раскаленная рельса. И он лежит на этой рельсе. Надо взять ее, отбросить и станет легче. Фурсов шарит рукой по тому месту, где боль, и нащупывает раздробленные кости. Там, где был правый карман и ниже — рваная пустота. И кости — острые, колючие. А под головой — ботинок. Он набирается терпения и, превозмогая боль, стаскивает с себя гимнастерку. Делает ком и запихивает туда, где было бедро. Там пустота, а надо, чтобы было что-то, иначе ему не подняться.
Фурсов задел за живое, обнаженное. Вскрикнул и, парализованный болью, замер, окаменел. Потом пришел озноб... «Я замерзну, зачем я снял гимнастерку?» А винтовка рядом. В ней осталось два патрона: один врагу, другой себе, если так случится.
Где-то рядом незнакомые слова, незнакомая речь. Фурсов открыл глаза и затаился. Он хотел спрятать под себя винтовку и не мог шевельнуться, только мысль работала и приказала ему притвориться мертвым. Он притворился и услышал шаги. Близко, как будто не по земле, по нему идут. Сквозь приспущенные тяжелые веки увидел офицера и трех солдат. Офицер, как две капли воды, походил на того, за которым он гнался в крепости и которого зарубил Никита Соколов. «Он пришел, чтобы отомстить, убить меня. Но я еще не все сказал, не все сделал. Да и не убьешь ты меня, потому что я умер. Дважды не умирают», — смеялся он над офицером.
Возле него остановились. Разглядывают. Один солдат сказал:
— Великан.
Другой возразил:
— Рыжий боров.
Третий только присвистнул. Офицер занес над ним ногу в щегольском сапоге.
Нет, нет, это не о нем говорят на незнакомом языке. Не на его лоб легла подошва сапога, не его голову повернули туда-сюда.
— Сдох.
— Все подохли.
— Аллес капут!..
Глаза сами собой смежились.
Шаги удаляются, замирают... Ушли? Тихо. Трудно раздвинуть веки: невдалеке стояли солдаты в мундирчиках с короткими рукавами. В руках — наизготовку — автоматы. Офицер подозрительно смотрел в его сторону и так, скуки ради, целился в него из парабеллума.
Кто-то застонал в беспамятстве — протяжно, жалобно. Офицер круто повернулся и два раза выстрелил в того, застонавшего. Стон оборвался. Офицер постоял, послушал. Пошел. Пошли за ним и солдаты, переворачивая павших на поле боя бойцов, расстреливая тех, кто еще дышал. Но вот выстрелы глуше, реже. Пропали. Фурсов лежит во ржи с широко открытыми глазами. Он живет. Он не имеет права умереть, пока не отомстит за тех, кто спас ему жизнь. Он еще не знает, как это сделает. Но он знает, ему надо бороться за свою жизнь, которая отныне принадлежит не только ему. Ему надо будет рассказать миру, что он увидел. Но сначала — отомстить.
Читать дальше