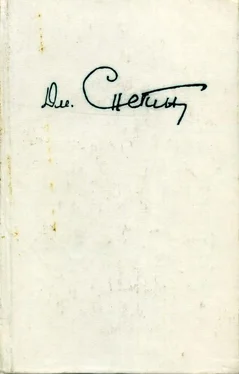Беспамятство мое, как я узнала потом, длилось несколько суток. Товарищам, оставшимся в подполье, удалось укрыть меня в глухом сельце Леонидово в доме председателя колхоза на правах дальней родственницы.
За большой русской печкой стояла кровать. На ней, более года не вставая, доживала свой век бабка Шурика, а теперь лежу я. Я еще ничего не знаю ни про бабку, ни про Шурика, ни про его мать, которую буду называть тетей Олей. Зато насекомые дают о себе знать. Они ползают по мне, набились в бинты и жалят, жалят. Я хочу открыть глаза и не могу. Чьи-то пальцы осторожно, неумело пытаются разлепить веки правого глаза.
— Разлепил.
Я увидела мальчика с черными живыми глазами и черной цыганской головой. Он улыбается, он прямо ликует:
— Ожила! Ей-бо, ожила!
— Кто ты? — невольно пытаюсь и я улыбнуться.
— Шурик... Да не елозь, а то опять в горячку хлопнешься.
«Я в горячке», — обожгло меня всю. Внезапно возникло видение огнеперого петуха, бой, смерть Лысенко и Искандера.
— Где я? Где?!
Шурик отодвинулся от кровати, нахмурился:
— Если будешь волноваться, ничего не скажу.
— Не буду... расскажи, бога ради! — А в голове снова возникает видение: ветхий сарай, я лежу возле распахнутой двери, тянет сыростью, а мне жарко. В дверном провале видна церквушка, на куполах пламенеет закат. Купола я вижу в раме обнаженных кинжаловидных штыков — часовые стерегут нас. Внезапно в дверях вырастает генерал Панфилов, он смело расталкивает часовых, голыми руками переламывает штыки, я близко вижу его лицо. «Мужайся, дочка», — говорит он и уходит на закат, где грохочут танки.
— Где я, где? — кричу я Шурику.
— Ладно, расскажу уж, только лежи спокойно, — придвигается Шурик. — Тебя привезли ночью в военной одежде Хромой и тетя Вера. Я переодел тебя во все наше, а военное спрятал; тетя Вера взяла документы, чтобы не узнали, что ты красноармеец. Теперь ты наша родственница.
— А Вера где?
— Они в лагере... А у тебя ноги замерзли, я мамины шерстяные чулки натянул... теперь тепло?
— Спасибо, тепло. Но скажи, наконец, кто ты, кто твоя мама?
— Колхозники мы, отец был председателем. А село наше Леонидовка... Не перебивай, слушай. Ты теперь не красноармеец, а моя тетя, значит, двоюродная сестра отца. Работала на почте в Осташово. Когда началась бомбежка, ты побежала к нам в Леонидовку и тебя ранило. Запомнила, кто ты, поняла?
Я не убегала из Осташово. Не могла убежать. Там стоял насмерть наш батальон. Там погибли Лысенко и Искандер.
Нет, я не могла убежать из Осташово, ничего не сделав для Родины, для друзей.
— Поняла, Шурик, поняла, — шепчу я воспаленными губами и плачу.
— Новое дело, — сердится Шурик и крепко вытирает мне щеку пестрым платком. Платок пахнет хлебом.
Слезы приносят облегчение.
— Шурик, ты не трус?
— Скажешь.
— А отсюда далеко до Осташово?
— Рукой подать.
— Бывает что и рядом, а далеко.
— Это ты про фашистов? — сообразил Шурик. — Обведем вокруг пальца, если надо.
— Надо, Шурик, надо. — И рассказала ему, кем были капитан Лысенко, Искандер, Дима Боровиков. — Разузнай, может, они не погибли, а вот так, как я, раненые. И в плену. Разузнаешь?
Шурик обиделся:
— Что я не человек? — Помолчал, насупившись. — Только мамке не сказывайте.
«Боже мой, — подумала я вдруг, — кажется, я знаю тебя сто лет, а на самом деле, кто ты, кто твоя мама, где она? И отец? Час назад я не подозревала о твоем существовании, а теперь вся моя жизнь, все мои надежды связаны с тобой, Шурик!»
Стукнула дверь. Не оглядываясь, Шурик предупредил:
— Мама... я по походке ее узнаю.
Женщина двигалась осторожно, словно на ходулях, а была высока, стройна и в меру дородна. Черный, в горошинку платок повязан под подбородком и резко оттеняет матовую белизну скорбного лица. Черные открытые глаза, как у Шурика, ясновидящие глаза. Подошла, скрестила на груди руки, низким голосом спросила:
— Очнулась, касатка?
— Спасибо вам, тетя...
— Ольгой меня зовут... А благодари своего защитника, — кивнула она в сторону сына.
Шурик поднялся.
— Пошел я: дела.
— Какие еще дела? — встревожилась Ольга.
— Лекарства собирать.
— Ой, горюшко, увидят они — застрелят.
— Меня не застрелят, — небрежно обронил Шурик — и был таков.
Ольга улыбнулась:
— Вылитый отец, где и надо бы согнуться, не согнется.
— А походит на вас.
— Обличием, а характером — в отца. — И вздохнула, присев на стул. Она сняла чулки и принялась водить по икрам ладонями. — Ноженьки мои, ноженьки. — Ольгины ноги были в синих веревках вздутых вен, в коричневых язвенных пятнах. — Обещал на курорт отправить после уборки. Отправил — себя.
Читать дальше