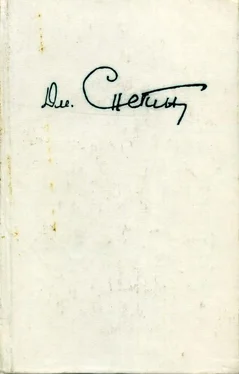Шурик и Олег сливаются в моем сознании в один образ, и я засыпаю. Сплю в чистой постели без сновидений.
Рядом со мной — наши.
Шурик поит меня из деревянной ложки. Ольга у печки громыхает ухватами, в который раз наставляет меня.
— Ты приходишься моему Андрею, ну мужу, двоюродной сестрой. А спросят, где поранило, говори — в Осташово. На почте, мол, служила. А когда началась стрельба, убегла в село, попала под пули, бомбы... И ты заруби это на носу! — грозит она сыну.
Мы давно зарубили, а Ольга все тревожится. Шурик жмурит вороненые брови, говорит с обидой в голосе:
— Зарублю, ладно. И что отца арестовали наши... А только все равно я для фашистов неблагонадежный, а для своих надежный.
— Ты смотри на него, окаянного, — сердится Ольга, — Возьму вот ремень, спущу штаны.
— Еще как благонадежный, — упрямо повторяет Шурик.
— Они и тебя, и меня, и сродственницу вот эту — в петлю да на сук. Чего ты так добьешься, чего?
Я понимаю: Ольга Васильевна строжится, чтобы сын, упаси бог, не проболтался. Понимает это и Шурик. Но даже на словах ради спокойствия матери он не хочет покориться фашистам и еще упрямее повторяет:
— Меня через коленку не переломишь!
— Горе ты мое, — вздыхает Ольга и отступает от сына. Она клюкой ворошит в печке дрова, и разгоревшееся пламя жарко озаряет ее еще молодое, искаженное непосильным горем лицо.
Мы с Шуриком переговариваемся глазами. «Все обойдется, потерпи». — «Понятно, обойдется... Только скорее поправиться бы тебе». — «А как на селе?» — «Пока ни наших, ни фашистов. Все местные, колхозники. Только староста — предатель, а два его сына в Красной Армии».
Вечером, когда от натопленной печки распространилась нестерпимая жара и дышать стало нечем, внезапно громыхнула дверь и в избу вошел осанистый старик. Ольга вскочила со стула, прижала к груди руки и замерла. Я догадалась — староста.
— Мир дому, — густо пробасил староста, не снимая шапки.
— Садись, гостем будешь, — смахнула ладонью невидимую соринку со стула Ольга.
— Не до сиделок мне... Слушок прошел: военнопленную приютила у себя, председательша. Иль двоюродную сродственницу Андрея?
Он, староста, отлично знал, что никакой двоюродной сестры в Осташово у председателя колхоза не было, притворяться тут ни к чему.
— Ой, горюшко мое, да ты погляди, вся она израненная, ни пить, ни есть сама не может, не то что ходить. Поимей жалость, — запричитала Ольга.
Староста не смотрит на нее, смотрит на меня прямо, твердо.
Я выдерживаю этот взгляд и с трудом размыкаю запекшиеся губы:
— Не я, так сыновья ваши, что сражаются сейчас с фашистами, отплатят вам за все.
Он подошел к кровати, широко расставил ноги и сверлит, сверлит меня колючим взглядом.
— Наши одолеют?
— Только отщепенцы не верят!
Теперь уж я сверлю старосту. Постоять за себя я не в состоянии, но умру достойной смертью.
— М-да, — мнет он бороду и уходит.
Ольга плачет:
— Что будет, что будет!..
— Как тебе не стыдно, мама! — кричит Шурик, и гневный голос его звенит где-то у меня в спине: остро, холодно.
«Вот поднимусь и уйду, поднимусь и уйду», — думаю я и час, и два, и весь вечер. Как я теперь понимаю, я тогда забылась и не чувствовала себя в плену, не понимала, что такое плен. Меня ранило, я неподвижна, только и всего. А как поднимусь, все станет на свое место: линия фронта, наш батальон, генерал Панфилов, Лысенко, Искандер. А страхи, староста и прочее — порождение больного воображения. И вообще, кто угодно может попасть в плен, только не я!... Я мечусь в постели от дурных предчувствий, все мое тело горит, как в огне, и режущая боль пронизывает мне грудь, голову, ноги.
Стучат в дверь. Я замираю. Тишина. Может быть, ветер хлопнул калиткой. Нет, Ольга Васильевна сорвалась с постели, метнулась в сени, тревожно зашептала. Звякнул крючок. Она пятится, а через распахнутую дверь в комнату вваливается староста с мешком за плечами. Он ставит мешок у шестка, смиряя бас, говорит:
— Тут тебе, Васильевна, на первый случай мука.
— Ой, да зачем же, ой спасибо! — благодарит Ольга.
Староста цыкает:
— Я у тебя не был, поняла?
Когда затихают его шаги, с печки свешивается Шурик, шепчет заговорщицки:
— А ты боялась — пропадем.
— Спи, — устало роняет Ольга.
Она неподвижно стоит у печки, возле мешка. Долго, одиноко. Но лицо ее спокойно.
Шурик засыпает, судя по ровному и глубокому дыханию. Стараюсь дышать ровно и я. Ольга Васильевна поворачивается ко мне, спрашивает одними губами:
Читать дальше