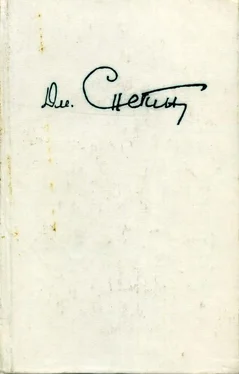Он был кавалеристом, капитан Лысенко, и, попав в пехоту, оставался им.
К месту погрузки мы поспели вовремя: эшелон только-только подали. И, как по сигналу, в небе появились меченые крестами самолеты. Мы грузились в паузах между бомбежками. Правда, наши ястребки мешали фашистам прицельно бомбить, и их налеты не причинили урона, но в путь наш эшелон отправился не до восхода солнца, как того требовал Панфилов, а во второй половине дня.
Никто не знал, куда мы едем. Лысенко, быть может, и знал, да помалкивал до поры до времени. Ясно было одно — эшелон мчался на юго-восток. Мчался безостановочно, кроме тех случаев, когда менялись паровозы.
Позади остались Бологое, Калинин, Клин. Ночью наш эшелон прогромыхал по окружной железной дороге Москвы и устремился на запад. Без огней, без сигнальных гудков. Только свист встречного ветра.
На рассвете мы выгрузились в Волоколамске и долго шли своим ходом по грязным проселочным дорогам, по пустынным, словно вымершим русским деревням. В Осташово заняли оборону. Поздняя осень, осень сорок первого года, была здесь в разгаре. По ночам прихватывали морозцы, а дни стояли погожие. Промерзшая за ночь земля с появлением солнца оттаивала и липла к сапогам, к колесам повозок и орудий, а копыта у лошадей обрастали толстыми лепешками из глины. Сосны посинели, а березы и осины горели золотисто-багряным пламенем. На запад от наших окопов простиралась пологая лощина, за ней горбились крутобокие холмы в березняке и рябине. Наезженный проселок, изгибаясь луком, делил рощу на две неравные половины. Никакого движения. И полное безлюдие.
СТРАНИЦА СНОВИДЕНИЙ И ВСТРЕЧИ С ГЕНЕРАЛОМ
С того дня, как наш батальон занял оборону в Осташово, мы стали подчиняться непосредственно генералу Панфилову. Лысенко не без гордости говаривал: «Мы — резерв самого комдива».
Но вскоре он заскучал. В середине октября левый фланг дивизии вступил в настоящий бой с фашистами. А мы томились в обороне. Одному старшине Омельченко удалось побывать в разведке и столкнуться с врагами. А схватиться с ними жаждали все — от капитана Лысенко до шофера санитарной машины Димы Боровикова. По нам лишь изредка постреливали из орудий. Стреляли из-за реки, но ни орудий, ни немцев видно не было.
Обстрел усилился в ночь под восемнадцатое. Часов около двух в дом, где расположилась санчасть батальона, угодил снаряд. Мы сжались, а снаряд лежал посредине комнаты и дымился. Хозяин дома — одноглазый, темноликий усач, бывший буденновец, не двигаясь с места, пошутил:
— Чадит, как опаленный поросенок.
Вбежал Лысенко, как всегда, стремительный, как всегда, подтянутый, выбритый, в туго подпоясанной кавалерийской шинели. Быстро оглядел всех нас.
— Живы? — спросил он с порога и увидел снаряд.
Увидел и ординарец и кинулся было к снаряду, но капитан удержал его:
— Отставить! — и бережно поднял снаряд и понес его на вытянутых руках на улицу.
Далеко-далеко раздался глухой взрыв. Когда капитан возвратился, ничто не изменилось на его лице, быть может, только глаза чуточку расширились и сильнее обычного блестели. Он ударил ладонь о ладонь, как бы отряхивая все, что может греметь, взрываться, убивать, и принялся отчитывать меня:
— Тебе было приказано устроить санпункт на опушке леса. На гауптвахту захотелось!
— От окопов туда далеко; начнется бой, как мы раненых выносить будем? — не сдавалась я.
— Не рассуждать: приказ есть приказ!
— Мы и так перебрались на самый край села, последний дом от передовой.
— А первый фашистский снаряд угодил именно к вам. Счастье — не разорвался. И все равно узнает генерал — не тебе достанется на орехи, мне.
— А вот он, генерал, легок на помине, как говорится, — раздался негромкий и теперь уже такой знакомый всем нам голос Ивана Васильевича Панфилова.
Мы встали, замерли в напряженных позах. Лысенко хотел доложить о случившемся, но генерал перебил его:
— Знаю... знаю... Садитесь, товарищи, — и сам опустился на санитарные носилки, что стояли посредине комнаты.
Капитан Лысенко сел напротив на другие носилки, едва не касаясь коленями генерала. На столе возле занавешенного плащ-палаткой окна чадила семилинейная лампа. Панфилов покосился на нее, расстегнул шинель. Сказал, ни к кому не обращаясь.
— Прикрутите фитиль, угореть можно.
Я исполнила приказание, и в комнате стало сумеречнее, уютнее. На лица легла печать задумчивости и нежности. Все притихли, за исключением тех двух на носилках. Иван Васильевич спрашивал, Лысенко отвечал.
Читать дальше