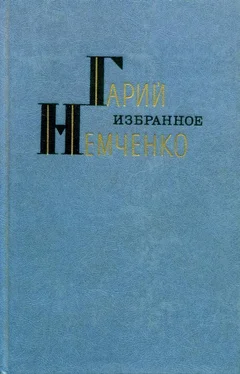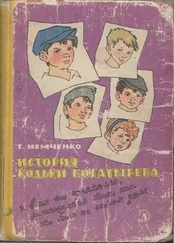Виноватым голосом мать спрашивает:
— Ничего, дядя Коля?
И теперь он ей говорит, как она тебе:
— Нет, моя детка, ничего... Придется тебе еще обождать.
Это было после того, как мы получили бумагу, что отец пропал без вести, и у калитки мы дежурили зимою и летом — то я один, а то вдвоем с младшим братом — он был тогда еще маленький, и одному ему мама стала доверять только через год.
А потом случилась история счастливая.
Когда мамы не было дома, дядя Коля принес телеграмму от отца. Он ее нам прочитал и ушел, и мы сперва прыгали от радости, а потом стали делить эту телеграмму, чуть не разорвали ее и в конце концов положили под камень у порога, чтобы никто не трогал.
Уже вечерело, а мамы все не было, и тогда мы решили идти к реке ей навстречу — мама ходила в степь за топкой.
По дороге младший брат начал хныкать, и тогда я решил отдать ему телеграмму, но нести ее он должен был не в руках, а за пазухой. Я сам положил ему туда телеграмму, и он тут же нащупал ее под рубахою и прижал ладошкой.
Маму тогда мы не встретили, она пошла другою дорогой, а было уже темно, мы вернулись, нашли у порога вязанку сухих бодылок подсолнуха — мама уже пошла нас искать.
Когда мы нашлись наконец, брат мой уже спал на ходу, и ладошку он все так же держал на животе, но под нею ничего не было. Видно, он так прижимал руку, что коротенькая рубашонка выбилась у него из-под трусов и телеграмма упала.
Мама уложила брата спать, и с ней мы сперва туда и сюда пробежали по нашему следу, но нигде ничто не белело. И тогда мы побежали к дяде Коле, он повторил, что было написано, но мама не верила ему, и все плакала. Он сказал, что это большая ошибка, не надо было ему отдавать такую телеграмму малым ребятам.
Мы взяли из дома лампу и кусочек картона, чтобы огонь не забило ветром, мама прикрутила фитиль, и мы пошли уже втроем и ходили по тропкам, лазали по траве до тех пор, пока на нее уже не пала роса, — я хорошо помню, что телеграмма, когда мы ее наконец нашли, была влажная. Разглядел ее на берегу дядя Коля, не знаю, как это удалось ему — был он почти слепой, и через несколько лет ослеп уже совершенно. Сперва, правда, этого никто не заметил, потому что от двора ко двору торопился он все так же бойко, и мальчишки догадались об этом первые — иногда он подзывал кого-нибудь из нас на улице, спрашивал потихоньку, кому письмо, но треугольный конверт без марки совал обратной стороной.
И еще несколько лет мы таскали по улице его сумку, а он только держался за плечо и все потом, когда его угощали, пытался поделиться с тобой половинкой пирожка с капустой или с фасолью.
Это было уже после, а в ту ночь мы больше не зажигали огня; и еще несколько вечеров сидели потом без света — пока искали телеграмму, выгорел весь наш керосин...
Это теперь, когда я вдруг задумался, мне припомнилось то и другое, а раньше о почте я, конечно, не размышлял, можно сказать, просто не замечал ее, как не замечают, предположим, здоровья, или хорошего настроения, или еще чего-то, что разумеется как бы само собой. А ведь разве не удивительно: куда бы я потом, когда уже стал взрослым, ни уезжал, в какие бы далекие места ни забирался, письма тут же находили меня — как будто у почты только и было забот, чтобы я ни на минуту не почувствовал себя одиноким... И правда, есть в этом что-то от чуда: весь твой с таким трудом проделанный путь почти тут же уверенно повторяет сам по себе беспомощный крошечный лист бумаги. Не потому ли встретить его, когда дорогу не в силах одолеть вездеход, люди за сотню километров выходят пешком? Не потому ли пачку писем, если плывут на лодке, никогда не положат ни в ящик с продуктами, ни в тяжелый рюкзак и полевую сумку, если что, спасают прежде всего?
Помню, когда я работал в маленькой газете на большой сибирской стройке и уже начал потихоньку писать, почерк у меня испортился окончательно, и письма мои не смогла читать уже не только мама, но и наша соседка — учительница. И два года, пока меня не было дома, разрывая конверты, мама только терпеливо рассматривала письма — они стали для нее просто знаком того, что со мной все в порядке, а ждать к тому времени она уже научилась.
Одно за другим я сам прочитал потом эти местами затертые мамиными пальцами письма, прочитал, опуская подробности, которые задним числом стали неинтересными или уже ненужными, и было любопытно заново оценить опоздавшие свои новости, и мама, понимая это, внимательно слушала, а потом, когда стопка кончилась, строго спросила:
Читать дальше