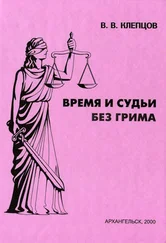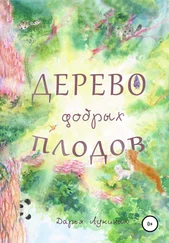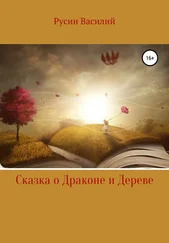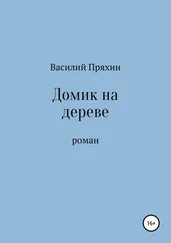Выехали они в полдень. Издали их можно было бы принять за доблестных рыцарей, отправившихся на ратные подвиги во славу прекрасных «дам сердца», своих возлюбленных. Один из них, пожилой и сухощавый, напоминал знаменитого Дон-Кихота, а другой, молодой и плотный, его верного слугу Санчо Пансу. Но, в отличие от рыцарей, ни на одном из них не было боевых доспехов — единственным оружием у них были длинные, похожие на ровные, тонкие пики, шесты с ременными арканами на конце. Всадники держали путь в урочище Кейик-Чешме — Джейраний родник. Это были объездчик Бадхызского заповедника Дурды Джумашев и его сын Лолло, молодой инженер одного из заводов в Ашхабаде. Получив отпуск, Лолло решил его провести, как говорится, на лоне природы и немного побыть у отца, который давно уже живет в Бадхызе, охраняя его животных и, в особенности такого редкого, как кулан-онагр.
Когда-то куланы водились в большом количестве. Еще в прошлом веке их можно было встретить во всех полупустынях — от восточных склонов Урала до Китая и даже в южно-европейских степях. Было время, когда огромные табуны светло-золотистых онагров жили в пределах Туркмении: в предгорной долине Копетдага, в Гяурской степи и в окрестностях Ашхабада. Древние жители Востока приручали куланов и запрягали их в боевые колесницы. Каждый, кто видел куланов, не мог не восхититься их стремительным мощным бегом. Но на куланью беду с давних пор его мясо и жир считались целебными. Дорого ценилась и шкура, которая шла на выделку цветного сафьяна. Ради этого кулана безжалостно истребляли. К началу нашего века он стал уже редкостью. В поисках безопасных мест и водопоев кулан все дальше отходил на юг. Но и здесь его подстерегала меткая пуля охотника. И, наверно, свели бы кулана на нет, если бы не правительственное постановление о создании в Бадхызе, на самом юге Туркмении, специального заповедника. Родился этот декрет в суровые для нашей родины время, в те самые дни, когда на подступах к Москве гремели ожесточенные бои.
Вот тогда-то, в центре Бадхыза, и создан был единственный в нашей стране куланий заповедник. Вначале животных было немного. Но после того, как взяли их под защиту, число куланов стало быстро расти и сейчас их уже сотни.
Среди тех, кто первым пришел охранять кулана, был совсем молодой парень — Дурды Джумашев. А сына его, Лолло, в ту пору не было даже на свете.
Ехали отец и сын молча. Кони, потряхивая гривами, шли резво, бок о бок. Потомок древнего кочевого племени, почти всю жизнь проводивший в седле, Дурды-ага красиво восседал на рослом гнедом иноходце. Хорош был конь и Лолло — светлый, в золотистых накрапах, молодой и стройный.
Ехать было легко. Немного мешали слепни. Стараясь от них избавиться, кони со свистом хлестали себя хвостами и сами меняли аллюр. Их приходилось сдерживать, хотя и всадникам изрядно наскучила тихая езда. Они и сами были бы не прочь, привстав на стременах, да натянув поводья, пустить коней бешеным наметом так, чтоб ветер свистел в ушах… Но силы коней приходилось беречь. Дурды-ага знал: они могут еще пригодиться.
Была и другая причина неспешной езды. Особое удовольствие в ней находил Дурды-ага. Он любил весенний Бадхыз и мог любоваться им без конца. Не хуже самого заядлого ботаника или натуралиста он знал здесь любое растение, птицу, зверя, змею, помнил их названия.
Погруженный в созерцание природы, старик молчал. Это далее немного сердило и обижало Лолло. Он вынужден был почти постоянно видеть отца лишь в профиль: его короткий орлиный нос, вздернутую к кудряшкам черной папахи широкую бровь да сбитую ветром в сторону его седую жидкую бороду.
А Бадхыз… Он словно сам старался показать все свое великолепие, всю щедрость весны, разворачивая перед путниками один пейзаж за другим…
Вот широкая долина. Вдали — вереница холмов. И во всю ширину долины — нежное малиновое пламя. Это цвели ремерии и маки. Сколько их тут! Кони идут и идут по мягкому ковру цветов. И странно! Смешиваясь с запахом разнотравья, перебивая его, слышится тонкий и свежий аромат сирени, как будто ты находишься в каком-нибудь парке. Но вокруг — ни одной сиреневой ветки. Откуда же тогда он взялся этот аромат?
Вот увалы уже рядом. И, кажется, от подножий до самого верха они одеты голубовато-синей мглой. Но это вовсе не мгла. Так выглядят холмы, покрытые густыми зарослями дикой бадхызской сирени-малькольмии. И запах у нее точь-в-точь такой же, как у настоящей сирени.
Холмы остались позади. И снова степь. И цвет ее и запах теперь уже совсем другие. Пробитая в сочном мятлике копытами диких животных, вьется по степи тропа. По обеим ее сторонам, словно девушки, кокетливо подбоченясь, стоят под желтыми зонтами соцветий одинокие ферулы. Внизу, под каждым растением широкая розетка длинных, мелко иссеченных, похожих на морковную ботву, листьев. А на единственном стебле — две-три «чашки» или «кувшинчика». Поэтому-то ферулу туркмены и называют «кейик-окара» — «джейранья чашка».
Читать дальше
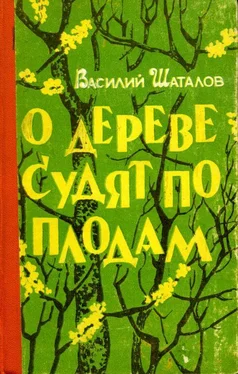

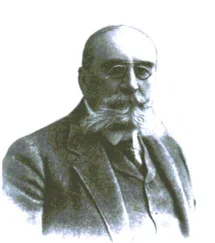

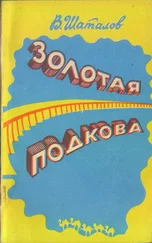
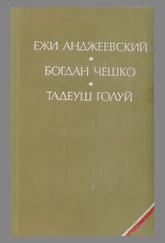
![Сергей Васильев - Вырастить дерево [СИ]](/books/426362/sergej-vasilev-vyrastit-derevo-si-thumb.webp)