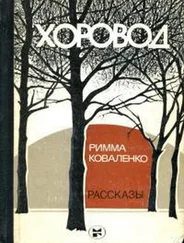Лукьяныч после таких слов надевал новый плащ и уходил из дома. Уходил страдать в парк, который был недалеко: улица бежала вдоль парковой ограды. Мать кричала ему вслед:
— Я этот плащ продам! Моду взял, что ему не так скажи — плащ надел и пошел!
Томка, которая на лето приезжала к бабушке, держала сторону Лукьяныча. И я, когда бывала с ними, страдала за него.
— Ты некультурная, бабушка, — говорила Томка, — у тебя что в голове шевельнется, то сразу на языке. Кончится тем, что он тебя бросит.
— Ой, как напугала! Да если дело к тому пойдет, я сама его первая брошу. Что я ему такого сказала? Правду сказала. Я без хитрости: что думаю, то и говорю.
Она тут же кидалась в работу: ставила тесто для блинов, замачивала рубашки Ивана Лукьяновича, заставляла внучку мыть полы, и все чтобы быстро, мгновенно, чтобы вернулся Лукьяныч и с порога увидел, какой рай земной временно отринул от себя.
— Бабушка, знаешь, к какому я пришла выводу? — говорила Томка, ползая на коленях с мокрой тряпкой. — Ты его любишь. По самому настоящему счету.
— Новость открыла. — Мать обижали такие слова. — Чего б я тогда замуж шла?
Одно дело самому сделать открытие, и совсем другое — узнать, что его открыли до тебя.
— Ты выдумщица, бабушка, — не верила Томка, — чтоб людей удивить, ты себя не пожалеешь.
Такой сложной похвалы моя мать не понимала.
— Это Рэма тебя так научила, — говорила она обо мне, — а ты с ее слов чирикаешь. Своим умом надо жить.
Я была ее дочерью, но в такие минуты она относилась ко мне, как к чужой, как к нечастой гостье в своем доме. А Томка приезжала каждое лето. С малых лет она одна, под приглядом пассажиров, ехала к бабушке. «Дите одно едет в вагоне через всю страну, — говорила мать соседкам обо мне, — разве матери так поступают?» Если соседки соглашались — так не поступают, моя мать их тут же осаживала: «Каждому свое: одна, как курица, всю жизнь цыплят за собой водит, а другая, как орлица, — где гнездо, где птенцы, ей неинтересно, у нее свой полет, своя высота». Соседки по опыту долгой жизни рядом с матерью не спорили с ней, отводя в сторону недоверчивые взгляды, соглашались, мол, чего уж тут спорить — Рэма твоя орлица, залетела далеко, а высоко ли — это и тебе, Ольга, неизвестно. Когда Томка была поменьше, они пытались случайным вопросом выяснить, на какую высоту я взлетела.
— А телевизор у вас дома большой?
Томка была внучкой своей бабушки: то ли чувствовала подвох, то ли ей просто вопрос не нравился.
— Мы вообще выбросили телевизор, — отвечала она, — он у нас время жрал, мы его и выбросили.
«Выбросили телевизор» — действовало. Это не бутылку пустую, не двенадцать копеек в мусорный ящик отправить. И все-таки им трудно было поверить, что длинная Римка, на которую мать каких-нибудь пятнадцать лет назад на весь двор кричала: «Туфли ей надо! Ты посмотри, в чем мать ходит!», что эта Римка выбросила телевизор.
Иван Лукьянович возвращался через час-полтора. Снимал плащ, откашливался, оповещая кашлем о своем появлении, осторожно ступал по свежевымытому полу, пересекая кухню и спальню. Три комнаты были одним названием, сложи в одну — и то большой комнаты не получилось бы. Через пять лет после войны мать получила через военкомат, как жена погибшего командира, комнатку в этом частном доме. Хозяин комнатки уехал в другой город, оставив заявление, что отказывается от жилья и единственно просит, чтобы не досталось оно родственникам, проживающим в этом доме. Родственники года три судились с матерью, ничего не высудили, а вскоре всю улицу поставили на снос, и обида на чужачку, оттягавшую комнату в частном строении, забылась. Мать прорубила себе отдельный вход, пристроила тамбур с крылечком, а когда прошел слух, что квартиры в новых домах будут давать в соответствии с прежней площадью, пристроила себе еще один тамбур. Первый тамбур стал спальней, а второй — кухонькой. В спальне стояла кровать и был еще узкий проход от одной двери к другой.
В зале, в квадратной комнате с желтыми обоями, телевизором и круглым столом посреди, все дышало таким покоем, теплом и раскаянием, что не только добрый Лукьяныч, но и более принципиальный человек забыл бы обиду. Мать ставила на стол блюдо с блинами, покрытое полотенцем, шла за сметаной и маслом, Томка расставляла тарелки, предвкушая разговор, который начнется с первым блином.
Чаще всего это был разговор о войне. Не воспоминания, а именно разговор. Война, конечно, война, ничего в ней никогда не было хорошего, всегда в ней убивали, но откуда у немцев объявилась такая нечеловеческая жестокость?
Читать дальше