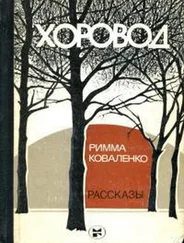Но самое смешное в этой истории случилось поздней. Непантелей — так мы его звали за глаза — повадился ходить к нам. Приносил сахар, в комочке газеты — чайную заварку. Иногда угадывала к его приходу и Дарья, и мы вчетвером пили чай. После пятого или шестого его прихода Дарья сказала матери:
— Что я вам скажу, теточка, только вы не сердитесь: не просто к вам ходит этот человек, вид имеет.
Мать побледнела, подняла брови.
— Сватает он вас, теточка, в мужья просится, — закончила Дарья.
Я прыснула и, чтобы не подводить мать, выскочила во двор. Там уже, пугая соседских детей, дала волю душившему меня смеху.
В начале лета бабушка увезла Володю в деревню. Дарья освободилась, после работы сразу шла к нам. Я в те дни сдавала экзамены на аттестат зрелости, сидела в садике под яблоней за столом, заваленным учебниками. Дарья садилась напротив меня, слушала мою зубрежку, иногда перебивала:
— Один красивым родится, другой — богатым, а этот — Пушкиным. С чего это у него стихи получались?
— С таланта.
— А талант с чего?
Я не знала «с чего», сейчас думаю — с сердца, с детских глаз, как они на мир с самого начала смотрели, а тогда не знала, сказала не свою, услышанную где-то фразу, очень она мне тогда казалась остроумной:
— Талант как деньги. Если они есть — то есть, а нет — так нету.
Дарья не согласилась:
— При чем тут деньги? Деньги заработать можно.
Потом сказала:
— Талант, думаю, на все в жизни бывает: на стихи, на деньги, на любовь… Я из-под лавки на все глядела, оттого такая бесталанная.
В конце июня, когда с моими экзаменами было покончено, мы с Дарьей отправились в парк. Когда парк подпирает своей железной оградой сарай в твоем дворе, в такой парк или будешь бегать каждый вечер, или выберешься однажды с великим трудом. Каждый вечер фокстроты и танго духового оркестра накрывали наш двор бьющими по нервам музыкальными волнами. Соседи закрывали окна и форточки, я, по молодости, не страдала, каким-то образом выключалась, лишь минутами слышала музыку. Она для меня звучала позывными другого, праздничного мира. Иногда по дороге домой, пересекая парк вечером, я видела этот мир, он не совпадал с тем, который рисовала мне в нашем дворе музыка. Девчонки, танцующие с военными курсантами на асфальтированной площадке, все как на подбор были в хороших туфлях, в кудрях, с яркими, накрашенными губами. Изредка среди танцующих попадались парни в штатском и девчонки студенческого вида. Эти чаще гуляли по дорожкам толпами, выстраивались в два ряда вокруг танцующих, глядели молча, с интересом, как на чужой берег. Однажды я увидела, как две девочки сняли туфли и босиком вошли в круг, — видимо, асфальт здорово стирал подметки. Запомнились еще парковые скамейки, покрашенные голубой непросыхающей краской. Они пустовали все лето, зияя вечером в электрическом свете. Каждая скамейка стояла под гроздью плафонов на высоком столбе.
Нам с Дарьей в этом парке делать было нечего, но мы однажды собрались и пошли. Дарья надела новое платье. У меня даже сердце упало оттого, что может быть на свете такое платье — синее, заграничное, с узенькими кружавчиками. Кружева в три ряда воротничком и рядов по десять на рукавах, длинным таким пенящимся манжетом. Пришлось мне надеть материн вишневый костюм, единственную драгоценную вещь, можно сказать, семейную реликвию. Когда я пришла с выпускного вечера с трубочкой аттестата в руках, мать, проснувшись, сказала, видно, давно заготовленную фразу: «В честь окончания школы дарю тебе костюм». Какой костюм, гадать не приходилось: он был единственным, мать купила его до войны, свозила в эвакуацию и привезла оттуда новеньким. Подарок так и лежал в чемодане под кроватью — «дарю» это еще «не носи». Я в этом разбиралась. Но тут вытащила чемодан, выгладила шелковый вишневый костюм с черной вышивкой на груди, замазала чернилами белые ссадины на каблуках туфель, и мы с Дарьей, нарядные, розовые от собственной неотразимости, двинулись сначала к сараю, потом по узкой тропке к дыре в парковой ограде.
Первое и единственное чувство, которое охватило меня в парке, был стыд. На нас смотрели. Наверное, мы были не только сверх всякой меры нарядные, но и по-смешному разные. Дарья уже мать, рабочий человек, с твердым шагом, и я в болтающемся, как на вешалке, костюме с птичьей походкой послевоенной десятиклассницы. Мы стояли в толпе, окружающей танцплощадку, — нас никто не приглашал. Мы выдвинулись в первый ряд — к Дарье подошел некрасивый длинный курсант. Я не глядела на них; в один миг убедила себя, что пришла сюда ради Дарьи. Пусть потанцует, какие у нее еще в жизни радости. Надо только пораньше отсюда уйти, положить костюм в чемодан до прихода матери. И вдруг:
Читать дальше