Машина летит вперед, летят на нее струи дождя, промывая крышу.
Поворот… Мяч… Мальчик… Крик.
Резко торможу, выхожу и стою под дождем. На части разорву паршивца, если поймаю. Вот он — широко раскрыв большущие глаза, в отчаянии смотрит на раздавленный мяч. Все оцепенели, слышу, как падает каждая капля.
— Лопнул, да?! Ух… покажу тебе! — грозит мальчику вожак — в голосе его слезы. Ребята стоят поодаль, боятся… У виновника влажно блестят глаза.
— Возьми меня с собой…
Я хватаю его за шиворот и вталкиваю в кабину, не давая ступить на подножку.
— В милицию его!
— Слыхано ли, в такой дождь футбол гонять!
— Поделом ему, сдай в детскую комнату, там его исправят!
Я закрываю дверцу кабины, и троллейбус мчится дальше. Движение возобновилось. Краска вернулась на наши лица — мое и мальчика. Пассажиры укоризненно качают головами.
— Почему опоздал, Леван?! — недовольно вопрошает диспетчер, утонувший в дождевике.
— Штанга сошла, — говорю я ему, высунув голову из окна, чтобы не слышал мальчик.
— Ладно, езжай, — разрешает он, постукивая карандашом по троллейбусу.
Мы едем молча. Показалась милицейская будка. Я не смотрю на мальчика, но ощущаю на себе его взгляд — следит за каждым моим движением. Возле орудовца, приятеля своего Закро, я замедляю ход. Останавливаюсь. Мальчик не шевелится, не сводит с меня глаз. Я опять высовываюсь в окно. Мальчик затаил дыхание.
— Закро, в кино пойдешь? — спрашиваю регулировщика.
— На что?
— Сегодня понедельник, значит, новая картина.
— Зайду за тобой в девять, — он закрывает оконце и продолжает свою работу. Мальчик серьезен, но глаза выдают радость.
Мы несемся дальше.
— Трус ты! — бросаю я мальчику.
— Нет!
— Струхнул!
— Нет.
На углу улицы кого-то дожидается женщина с зонтиком. Мальчик пригибается, прячась, и смотрит на меня.
Дождь иссякает.
— Возьми полотенце, просуши волосы. Простынешь…
— …
— Как звать?
— Дато.
— Сядь вон там, на реостат.
— На что?
— На реостат, — указываю ему пальцем.
Тучам надоело изливаться. Они поредели, и спрятанное ими солнце уже высветило их. Над асфальтом вьется легкий пар. Небо прояснилось. Женщина все стоит. Мальчик снова пригибается, выжидательно глядя на меня.
— Мама?
— Да.
— Сойдешь?
— Нет.
— Черт тебя бери, не отвяжусь никак!
Мальчик смущен. Но мне не до него, слежу за регулировщиком.
— Останови, сойду!
— Нельзя, потерпи до остановки.
— …
— Доберешься до дому?
— До свиданья.
Ртутным шариком скатился по ступенькам и пропал среди людей, вышедших прогуляться после дождя.
Дато долго не мог уснуть. Он думал о случившемся. Думал о товарищах, о водителе, переживал, что загубил ребятам мяч, что невольно провинился перед дядей Леваном. И почему у него подкашивались ноги, дрожали коленки — трус он? А дядя Леван наверняка не струхнул бы, он сильный, волевой. И все же мальчик твердо решил не становиться водителем троллейбуса. Решил это, когда, сидя на реостате, услышал треск и жужжание контактов. Потом в потоке влажного воздуха, сквозь который летел троллейбус, он различил вдруг сверкающие частицы всевозможных форм и пытливо уставился в небо: где оно кончается, что там — в самом конце? Нет, не троллейбус был ему нужен. Он мечтал о машине, которая доставит его до неведомой конечной остановки, и был уверен — сам создаст еще невиданный воздушный корабль, а может, кто-нибудь из его сверстников.
* * *
На углу улицы я заметил Дато — в руке портфель, галстук сбит набок. Завидев меня, он просиял, хотел что-то сказать, но мой троллейбус быстро промчался мимо — движение неумолимо, к тому же я делал последний круг и очень устал: устали мышцы, глаза.
Закончив работу, я пообедал в столовой и отправился домой. С порога отметил опостылевший беспорядок в комнате. Не раздеваясь, растянулся на постели. Каждого гнетет иногда тоска. В моем настроении женщина всплакнула б, верно, и все же прибрала комнату, занялась бы собой, а я отрешенно, бездумно уставился в пол, в деревянный, некогда крашенный пол. Прихотливые изгибы древесных волокон образуют странные узоры, обрываясь в сучках. Сучки блестят, в тесном сплетении линий моим глазам рисуется обычно все, что мне хочется, чего жду. Но сейчас и узоры на сучках изменяют мне — не видны на темном полу. А в том углу комнаты, где лежат гантели и штанги, — радостное оживление: знают, если со щелканьем ключа в замке не раздается песня, если хозяин угрюмо молчит, значит, займется ими, и, довольные, блестят и скалятся. Но сейчас и они мне не желанны. Хоть до утра проваляюсь, потому что раздражен. Почему бывает так? «Почему? Почему?» — сверлит вопрос мозг.
Читать дальше
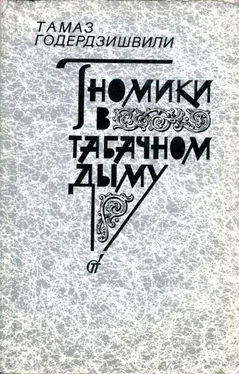


![Джон Маверик - Я и мои злые гномики [сетевая публикация]](/books/394454/dzhon-maverik-ya-i-moi-zlye-gnomiki-setevaya-publika-thumb.webp)








