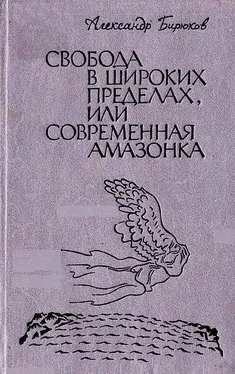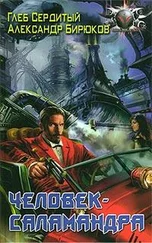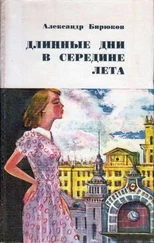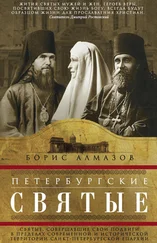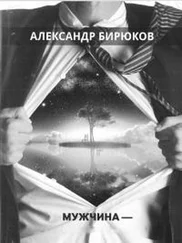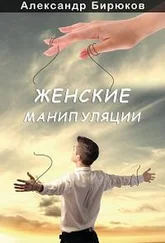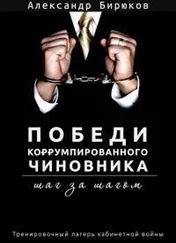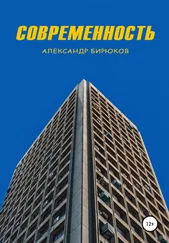— Сколько у тебя? — сказала Вера Васильевна.
— Двадцать рублей. Я думаю хватит?
— Наверное. Только учти, что скоро не обещаю.
— Я понимаю, — засуетился Петя, — это ведь) не в Москву посылать. Спасибо вам большое. А названия я вот на бумажке написал.
— Да! — сказала она, когда Петя уже открывал дверь. Мысль одна — не очень ясная — пришла ей в голову. — Ты не скажешь, как ваши чертежи выглядят? Те, которые вы в институте делаете. Ведь вы там чертежи делаете?
— Делаем, — сказал Петя, — только я не пойму, что вас интересует.
— На какой они бумаге?
— На синьке.
— Это фиолетовая такая? А нарисовано что?
— Разное. А почему вы спрашиваете?
— Так, интересно. Часто мимо вашего здания прохожу и все думаю, — соврала Вера Васильевна, — чем они тут занимаются?
— Разным, Вера Васильевна, — сказал Петя. — Но в основном тем, что имеет отношение к горному делу.
— А скажи, эти чертежи секретными бывают?
— Конечно. Если машина, или установка, или еще что-нибудь совсем новые, новую идею содержат, то они сначала секретные, чтобы приоритет не потерять.
— Чего?
— Приоритет — чтобы не украли. А потом, когда это устройство изготавливать на заводе начнут или зарегистрируют где положено, тогда уже секрета нет.
— Понятно, — сказала Вера Васильевна. — Ты к себе домой чертежи не берешь?
— Бывает. Когда курсовую делаю или просто поработать приношу.
— А мне можешь показать?
— Конечно. Только зачем?
— Как — зачем? Сто лет живу, а на прииске ни разу не была и как там все делается, не знаю.
— Ну приходите, покажу.
«Действительно, зачем мне это? — подумала Вера Васильевна, когда Петя ушел. — Не буду же я ему чертежи Антона Бельяминовича показывать. Он написал, что только мне может их доверить. Или это Аркадий передал? Все равно. А Петины чертежи мне зачем? Я и не пойму в них ничего. Нет, пустое это все, зря я вылезла».
Оставим Веру Васильевну разбираться в этом неясном ей самой вопросе и расскажем нашему читателю кое-что о том, как добывалось и добывается в Магаданской области золото. Без этих сведений о ведущей отрасли наше повествование будет неполным и, может, даже легкомысленным. Ведь именно золотодобыча определяет в конечном итоге жизнь подавляющего большинства населения области, а значит, и моих героев. Поэтому для полноты картины нужно рассказать и об этом.
Государственный трест «Дальстрой» был организован по постановлению Совета Труда и Обороны и ЦК ВКП(б) от 11–13 ноября 1931 года «для производства промышленного и дорожного строительства в районе Верхней Колымы, — как говорилось в приказе по «Дальстрою» № 1, подписанном 9 февраля 1932 года его первым директором, легендарным Эдуардом Петровичем Берзиным, латышским стрелком, участником подавления левоэсеровского мятежа, героем, разоблачившим английского разведчика Локкарта и в невиданно короткие сроки построившим Вишерский бумажный комбинат, — и в частности, для управления колымскими приисками» (Березин В. От тачки — к драге. Магаданская правда. 1967. 7 нояб.).
На возникавших после организации «Дальстроя» одно за другим золотодобывающих предприятиях «все горные работы велись преимущественно ручным способом. Короб и тачка, механический крючник и пойнт являлись основными механизмами, а нефтяные двигатели — 12–18 лошадиных сил — энергетической базой» (Этапы технического прогресса на золотых полигонах. Колыма. 1974. № 8).
«Выставлять ежедневно на добычу песков 3000 человек, давать 6750 кубометров, на торфа —1000 человек» — эти строки из приказа начальника одного из приисков типичны для того времени.
А вот выдержка из оперативного приказа по тресту «Дальстрой» от 12 мая 1939 года: Считать 15 мая днем начала сезона массовой промывки. Подготовьте тачки, комплекты инструмента: кайла, лопаты, подготовьте забои для обеспечения фронта работ большого количества рабочей силы» (обе цитаты из указанной статьи В. Березина).
1936 год. Начали применять кое-где экскаваторы. Через десять лет объем экскаваторных работ на вскрыше песков составлял уже 60 процентов (Потемкин С. В. Горная наука и совершенствование разработки вечномерзлых россыпей на Северо-Востоке СССР. Магадан, 1973. С. 57).
1943 год. На золотых приисках впервые стали эксплуатироваться бульдозеры. В 1944 году первый бульдозер был изготовлен на Магаданском авторемонтном заводе (АРЗе).
Постоянно совершенствовались приборы для промывки золотоносной массы. В 1939 году на смену колоде пришел промывочный прибор конструкции Шлендикова. В 1940 году появился первый прибор скрубберного типа. Были перепробованы десятки всевозможных конструкций: только в 1953 году на вооружении горняков находилось пять модификаций прибора МПД (М — значит металлический, до этого приборы были деревянными).
Читать дальше