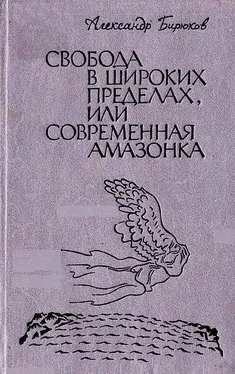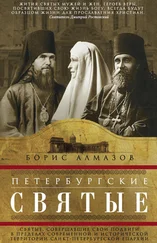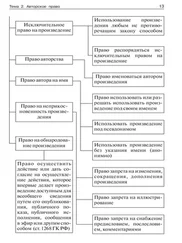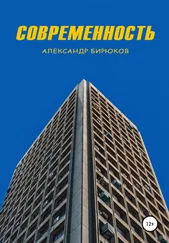Вариант номер три. Ну а если она, эта одухотворенность, все-таки есть? Если она — не ювенальный зуд (как такие же, вносящие в юную душу смуту и предчувствие не то беды, не то счастья, но какое-то предвкушение событий, хилые кровотечения), не вычитанное у подлинных поэтов, а свое собственное, что называется талантом или гением даже? Если это действительно есть у Татьяны — не на пустом же месте появилось Нинино восхищение и не зря же она увидела это темное полотнище, трепещущее над диким стадом визжащих и хулиганящих наездниц-идиоток, — тогда как? Тогда уж, простите, никаких волосатых ног, приводящих в смятение, и, шире, никакой рабской покорности, как в варианте с Левой Пироговским, а сама возьмет такую (имеется в виду нога), если ей это понадобится. А в бытовом отношении что? Или иждивенка в этом богатом доме, сначала на содержании у папы, потом у брата Бориса, если он, конечно, появится и согласится (можно какое-то время жить и тем, что распродавать свою долю наследства, если этот Борис окажется тем еще фруктом, что не захочет содержать свою родную, хоть и гениальную сестру). Или — это все из той же бытовой среды — рубище, схима, к черту роскошь и вообще все, есть только поэзия, и пошли бы все куда-нибудь подальше, я как-нибудь и без вас проживу, а если подохну с голода, то это мое дело, тем более что и гениальность в этом случае скорее признают. Но ведь такой личностью, как Ханбекова, надо родиться. А есть ли это у Тани Кантор, кто знает? Есть или не есть — вот в чем вопрос.
Далее следует папа Лев Моисеевич (еще один Лев, но этот — натуральный, можно дотронуться, в отличие от Пироговского, который не более чем гипотетический), лет около пятидесяти пяти, невысокий, пухлый, с маленькими белыми ручками (глядеть на них странно, если подумать, сколько он работает и сколько ими огребает). Деловит, точнее — очень занят, но спокойный, несколько ироничный, что простительно при его положении, весе и прочих достоинствах. Не чурается молодежи, можно сказать — демократичен даже, однако без всяких там сюсюканий и заигрываний («Ах, мальчики и девочки пришли! Проходите, раздевайтесь, я вас чаем угощу!»), словно разглядывает и оценивает их с какого-то своего рубежа. Для чего оценивает — не очень ясно. Равно как не очень ясна и вообще его ценностная ориентация — для чего он все делает, крутится в этом сумасшедшем режиме, работает не покладая рук.
Для денег? Хорошо, что они есть, конечно, но ведь не только ради них. Для процветания семьи? И это неплохо, но она может существовать и в менее благоприятных условиях и обстоятельствах. Ради помощи ближнему, искоренения боли и страданий, как и всякий врач? Тоже, наверное, но что-то не вяжется в его облике с образом верного и бескорыстного служителя добра. Что именно? Трудно ухватить. Умный, доброжелательный, ироничный. Но при всем том вроде несколько циничный, что ли? Или это отпечаток профессии — врач, да еще многоопытный, человек, от которого (и для которого) нет, наверное, вообще никаких тайн (а значит, и ничего святого, ибо святое есть тайна, таинство)? Или цинизм этот только напускной? Или нет его вовсе, только показалось? Может, зря Нина клепает на спокойного и доброжелательного хозяина дома, который не только терпит их визгливый галдеж, неумеренное курение и явное злоупотребление сухим вином и крепким кофе (тем более — на ночь глядя), а еще и прислушивается к их дурацким разговорам, вступает даже иногда с ними в вежливую, но решительную полемику, если завирательство идет уже выше головы. Чего ж вам боле? Кто бы от такого отца-папы отказался? Ну вот и нечего завидовать.
Мама. Анна Павловна. Высокая, очень моложавая женщина, ничуть не похожая на тех толстозадых гусынь, которые обычно хранят очаг в еврейских домах. В отличие от шипящих сестер она вроде и не главенствует в доме (что трудно было бы и предположить при наличии такого столпа и оплота, как Лев Моисеевич), но и не в подчинении находится. Она — сама по себе, словно весь этот дом-квартира со всем его барахлом, седой стариной и устоявшимися традициями, Лев Моисеевич, Таня и прочие домочадцы для нее — как цветное широкоформатное кино, которое она смотрит, заплатив чем-то за это заранее обещанное удовольствие, и досмотрит, вероятно, до конца, потому что кино ей в основном нравится, но если случится что-то из ряда вон выходящее — тошнота вдруг к самому горлу подступит или крыша у кинотеатра загорится, — она бросит его на середине сеанса, заботясь прежде: всего о собственном спасении. К тому же и блевать на соседей как-то не очень удобно, не так ли?
Читать дальше