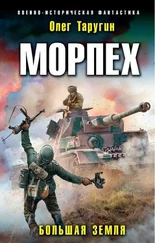Да, ей трудно дышать, повернуть голову, даже открыть глаза. Силы уходили, кончались, но память, лишь иногда отягощаемая вязкой дремотой, работала пока безотказно.
Авдотья вспоминала и вспоминала песни, какие доводилось ей певать. Их было много, недаром говорили: «Егорьевна все песни из-подо дна знает!» И она перебирала каждую песню по словечку, будто длинное ожерелье, бережно отодвигала от себя, прощалась и жадно переходила к другой. Которая из песен краше? Трудно сказать…
Ближе к сердцу лежали старинные, унывные песни-плачи. Скупые на слова, они все-таки пелись долго: каждая строка, каждое слово в них изукрашивались протяжными запевами.
Как гибкий хмель обвивает древесный ствол, так голос обвивал, растягивал, утоплял в себе слова. Уже запевала, выводя зачин, обрывал на полуслове, чтобы удержать рыдание, и хор, с полуслова же, подымал и нес песню: недаром же она была песня-плач.
С большим волнением вспоминала она свои собственные сказы. Началось все в тот несчастный день, когда волостной писарь сунул ей в руки бумагу и объявил, что муж ее, Силантий Логунов, убит в бою под Мукденом.
Отчаянный вопль вырвался у нее в тишине одинокого двора: какой беспросветный, страшный, какой непонятный мир ее окружал! И сколько черного горя виделось впереди… И не только виделось, но и сбылось.
А тот горестный причит, с каким обратилась она к солдатам, уходившим на первую войну с немцами?
Уж и куда, куда поезжали наши соколики родные
От витого своего теплого гнездушка, от обидной своей семеюшки?..
Так кричала и плакала Авдотья, утевская вопленица. Ничего не было в этом причите, кроме горьких слез, отчаяния, темного страха перед войной.
Зато в ее плаче по Кузьме Бахареву, расстрелянному белыми, уже тлели, как угли под золой, возмущение, гнев, призыв к отплате.
Вспомнила Авдотья и свою песню-сказ на свадьбе сына Николая, в коммуне: тоже не простая была песня, с умыслом.
Да, приходил особенный час, и Авдотья пела или сказывала, а люди безмолвно подчинялись ее голосу. И те, которых она хотела убить своим словом, не находили ответа и только кипели злобой.
Было, было что вспомнить Авдотье, о чем подумать. Но вот перебрала она все до единой старинные и свои песни и затомилась.
Что ей еще нужно? Впереди оставались считанные дни, а может быть, и часы. Заботы начисто отошли, словно сквозь сон слышала она жизнь, что текла вокруг нее. Теперь бы сложить руки на груди, сказать: «Прощайте все…» Но нет, еще не утихла, еще чего-то искала беспокойная ее душа.
«Песни никому не отказала… Ганюшка мала, а Наташа непевчая живет…» — думала Авдотья и тут же укоряла себя. Нет, песня всегда живет рядом с человеком, ушел один певец, придет другой. Не может умолкнуть песня в народе.
А томление не проходило — наяву и в беспамятной дреме тревожили Авдотью неясные догадки и видения…
Так возник перед Авдотьей Тихон, искатель родников. Она еще не понимала, почему вспомнила о нем, но старичок безмолвно маячил перед нею. Еще в детстве, от старых дедов, она слышала о нем. Деды рассказывали, что был такой человек, по имени Тихон, всю жизнь искавший и находивший родники. Да, роднички откликались тому Тихону: до сего дня в Утевке и во всех окрестных деревнях роднички назывались Тихоновыми. Но ни сказок, ни песен не сложили о том Тихоне степные жители, будто бы добра от него не видели, будто и не жил он на свете. А может, так и было, — может, не жил? Земля ведь у них сухая, жаждет воды, вот народ и придумал старого старичка, искателя родников. Надежду сам себе зародил. Мало ли мечталось о том, чего сроду не было.
Да, земля у них сухая. Думы, как бы далеко ни убежали, все равно, словно мотыльки на огонь, летят к этой заботе, к этой народной боли: земля у них сухая.
Но к чему все-таки померещился тот древний Тихон? Авдотья открыла глаза, ее словно толкнуло под самое сердце: вот чудное дело, ведь того однорукого человека, что развел сад в Вязовке, тоже звали Тихоном.
Только этот человек жил не в сказке, а в яви. И яблоньки у него стояли живые, в румяных плодах. Тихон — искатель родников, а Тихон Безрука — садовод. Жизнь минувшая и жизнь новая… Родники и сады, вода и дерева…
Авдотья наконец поняла: вот откуда шло томление, вот что билось в ней, искало выхода!.. Песня рождалась где-то в глубокой тайности сердца, новая песня!
Но о чем же и как могла она запеть теперь в немоте и бессилии болезни? Видения новой, еще не сложенной песни лишь пронеслись перед нею, а она обессилела до полной глухоты. И сердце сорвалось, словно хотело выметнуться из груди. И вот лежит она, смиренная, неподвижная, ожидая, когда сердце затихнет.
Читать дальше
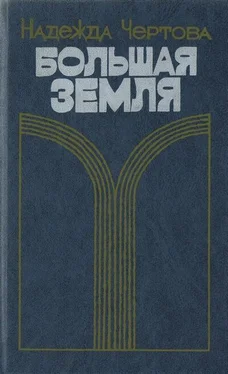






![Всеволод Валюсинский - Большая Земля [Фантастический роман]](/books/389774/vsevolod-valyusinskij-bolshaya-zemlya-fantasticheskij-thumb.webp)

![Надежда Нелидова - Большая стирка [сборник]](/books/429566/nadezhda-nelidova-bolshaya-stirka-sbornik-thumb.webp)