Гришка притащил Верочке кринку меду и несколько травяных закруток.
— Ты только не бойся, а молись… Матушка пресвятая богородица, батюшка истинный Христос, спасите меня, проживающую в школьном, третьем от краю, доме, а остальных — как знаешь! И, главно, пей мед вот с этой травкой, а потом с этой и еще вот с этой!
В тайных баталиях со своей «белой заразой» Григорий произносил много каленых, как желтый печной кирпич, слов: «Ради счастья людей, ради освобождения духовного борцы революции шли на каторгу, кровь проливали на баррикадах, от чахотки умирали по тюрьмам. А ты?» Он сперва говорил такие речи, чтобы запугать, оболванить и закабалить свою бабу. А потом, вдумываясь в смысл произнесенного, подолгу сидел ошарашенный, пил самогонку и сознавался: «Так оно, вроде, и на самом деле так было. Что же я, курва, себе-то вру. Братишка мой, соколик ясный, знал, а тоже ведь не объяснил вовремя, сукин сын!»
Когда Григория по делу Лаврентия-лавочника вызывали в органы госбезопасности, он резал напропалую:
— Лаврушку? Лавочника? Знаю. Кровопивец первый… Иксплуататор!
— Вы сами участвовали в антисоветских мятежах, заговорах?
— Я? Против Советов? Вот что, товарищ, ты должен знать, кто лежит у нас на площади в братской могиле. Тереша, родной браток мой… И сам я партизан… Вот справка.
— Но вы все-таки были в родстве с одним из них… Арестованный это определенно доказывает.
— Был. Не отпираюсь. А потом что? Сам лично уничтожил этого вражину за наше пролетарское дело… Документы есть. И что же, посадишь?
— Пока нет. Но что вы все-таки знаете о лавочнике? Нам нужны подробности.
— То и знаю, что главного родниковского бандита и контру, писаря Сутягина, он у себя скрывал от большевиков. Александру Павловну, покойну головушку, он зарубил!
— Это вы подтвердить можете?
— Сам я, конечно, не видел. Но люди говорят, и Иван Иванович, председатель сельсовета, об этом знает.
— Что ж, проверим.
— Только вы, товарищ следователь, все, что Лаврушка наврет, во внимание не берите… Он так и других оболгать может… Мы жилы последние вытягиваем для победы, а он…
Шла война. Григорий Самарин работал в колхозе действительно не покладая рук. Он ремонтировал инвентарь, брички, плуги, бороны, сенокосилки, помогал утеплять подгнившие коровники и овечьи кошары, ездил зимой за кормом.
Председатель колхоза, Никита Алпатов, муж Поленьки, бывший школьный математик, на второй год вернувшийся с фронта на протезе, не мог нахвалиться:
— Если бы не дядя Гриша, куда бы девался? Всякой дыре — затычка!
Потому-то на запросы органов безопасности он и подписал Гришке самую лестную характеристику. Не знал, конечно, Никита, что немалую роль сыграл этот человек в гибели его отца, что находят на этого «передового» колхозника частые затмения. Что во время работы он останавливается иногда, оцепенев от звучащих в душе вопросов: «Для кого стараешься?», «Кому это нужно?», «Они же тебя ограбили, и ты же на них и вкалываешь?». Гришка отчитывал себя за такие думки беззастенчиво: «Кто же ты такой, братец, если для родной земли потрудиться не желаешь… А если немец придет?» И сомнения отступали, таяли.
Похвалы председателя колхоза, положительная заметка в районной газете «Красный пахарь», приезд Веры, которую Григорий и в самом деле помог выпользовать медом и травами, допрос по поводу Лаврентия — все это окончательно отодвинуло его от зарытых на Сивухином мысу кожаных мешков. «К ним сейчас не только прикасаться, об них думать нельзя. Это же доказательство кулацкого прошлого. На кой черт они нужны?»
Когда Верочка совсем поправилась и, съездив в райздрав, начала работать в больнице, Григорий, встретив Поленьку, услышал из ее уст слова, вызвавшие огромную, до слез, радость. «Спасибо, братка!» — сказала она. «Братка!» Сколько лет не слышал такого к себе привета!
2
— Раненые есть?
— Нет, товарищ гвардии генерал-майор.
— Живые? Невредимые? Все?
— И живых… — В трубку ворвались дикие завывания, будто черная и морозная степь застонала.
— Ну, что вы там? — забеспокоился Макар.
— Живых тоже нет… Погибли все, — тихо прозвучал голос.
Макар уронил трубку, грузно поднялся со стула и ушел в комнату к адъютантам, молоденьким, только что прибывшим из резервов старшим лейтенантам Денису Кузнецову и Саше Колобову. Там сидел и Тихон.
— Водки налей! — приказал он ему.
— Полный или до хлястика?
— Полный.
Тихон послушно нацедил из канистры стакан водки, пододвинул к краю стола тарелку с бело-розовыми колбасными колесиками. Если бы в комнате не было адъютантов, Тихон непременно бы начал свою воркотню: «Куда это годно? Водку стаканами хлестать с таким-то здоровьем?» Но в комнате были оба генеральских адъютанта — «старлеи», как называл их Тихон, а при «старлеях» «позорить» генерала он никогда себе не позволит.
Читать дальше


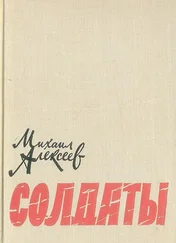



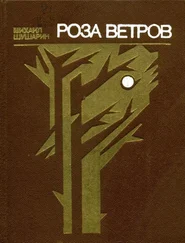

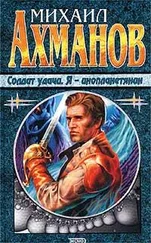

![Михаил Михеев - Солдаты погибшей империи [litres]](/books/430374/mihail-miheev-soldaty-pogibshej-imperii-litres-thumb.webp)
