— Ого, сказанул! Я-то на своих досках ходок. А ты?
Мне пришлось показать егерю свои узкие, беговые лыжи.
— Соломинки? Оставь в избе, на лучину пустим…
Он вынес из сеней валенки и широкие короткие лыжи с сыромятными креплениями, подбитые неизвестным мне мехом.
— Сожгу твои соломинки, может, тогда научишься уважать людей. Куда ехал и зачем ехал — забыл?
— Виноват, Михайлович, секи поскорей! — покорно склонил я голову. Мне не терпелось очутиться на улице…
С непривычки к чужим лыжам я быстро устал, взмок и уже не ощущал мороза. Сталактитовый лес с позванивающими от мороза ветвями вызывал досаду: приличный кадр на ходу не сделать. Даже делая портрет бетонщика для трестовской многотиражки, целый час вымучиваешь из него обязательную «улыбку передовика», а тут для себя снимок. Для души…
Порой я всерьез задумываюсь, что скажет о моей честности фотографа сын, когда вырастет и заинтересуется «подлакированными» снимками в подшивке хранимых мною газет. Ведь по ним составляется летопись треста! Верно, улыбчив и обаятелен бригадир бетонщиков Вахтанг Тебридзе, но только это полуправда, ибо остальная часть правды в том, что, когда я приехал снимать Вахтанга, он был зол на редкость. Мел снег, в сырой снежной каше буксовали троллейбусы, а его бригаду перебросили доделывать автостраду, ведущую к аэропорту, — укладывать бетонную подготовку прямо на слякотный снег. Близилась красная дата календаря — ждали гостя из столицы…
Конечно, легко напустить сыну тумана о правде фотоискусства, якобы не всегда совпадающей со столь сложной правдой жизни, а еще слаще впасть в амбицию. Дескать, за какие снимки платили, те и делал, и денежки на тебя тратил, родненький! Но если даже родному сыну говорить одно, а думать совсем другое, тогда…
Занятый мыслями о сыне, я не сразу распознал в еловой гриве на нестерпимо ярком голубом фоне начало хребта Мускаль. Еще минут десять ходьбы — и мы целиком увидали взметенный над тайгой оснеженный гребень.
На хребте отдельно искрилась каждая елочка, отдельным кораллом просматривался каждый валун в россыпях курумников. Поразительное отличие от того вроде и невысокого темнохвойного увала, каким увидал Мускаль летом. Вот и бравируй после этого своей зрительной памятью фотографа!
На склонах Мускаля снег стал особенно глубок. Мне, дотоле тропившему лыжню, пришлось теперь плестись вслед за Михайловичем. Я заметил в прогале между елями обширную поляну и было свернул вправо — скорехонько обогнуть ее и снова оказаться впереди егеря, но тут Топаз глухо зарычал. Утопая в снегу, он прыжками понесся к пню на поляне, который искрился снежным грибом.
Как потом рассказал егерь, слабинка рыси — любопытство, и коль лес глухой, нетронутый, с бесконечными одинаковыми елями, то рысь обязательно исследует нарушающие однообразие пень, буреломину или стог сена…
Топаз крутился вокруг пня, но близко к нему не подскакивал…
— Горяч-горяч, а в капкан нос не сунет, — с теплым чувством сказал егерь. Александр Михайлович понимал, что любой привычный ему пустяк сейчас интересует меня, и ненавязчиво подсказывал, как беречь силы при долгой ходьбе по тайге, как уберечься от обморожения.
Он осторожно разгреб топором снег возле капкана и указал пальцем на светлый полированный коготь, стиснутый железными губами капкана.
— Снега лишка подвалило. Лапа не провалилась как следует, он ее и щекотнул за коготь. Видеть сам не видывал, но читал: бывает, и лапу отгрызает…
Меня охватил не то чтобы страх встречи со зверем, а жутковатое чувство: ждать с раздробленной лапой, пока «избавитель» однажды под вечер не приставит ствол ко лбу — все четыре перегрызешь…
— Жинка иногда взбунтуется — посиди дома! Воскресенье откукую с нею — и то муторно в четырех стенах… — сказал егерь, безошибочно угадав мое состояние.
Он долго и молча смотрел на меня, словно ожидая, что вразумительного я ему отвечу. Я старательно потер ладонями лицо, стаивая иней с ресниц и бровей…
Егерь неожиданно зло прикрикнул на взбудораженного пса. Топаз заскулил от незаслуженной обиды, выбрался на лыжню за моей спиной, и до самой Дегтярки меня сопровождало его горячее дыхание. Причем, стоило ускорить шаг, чтобы настичь Михайловича, как пес начинал предупредительно рычать. Я заметил: егерь не терпит молчащего ходока за своей спиной. Он или пропускал меня вперед — тропить лыжню, и тогда сам тяжело молчал за моей спиной, либо же, вроде как от скуки, постоянно переговаривался со мной, если я отставал.
Читать дальше
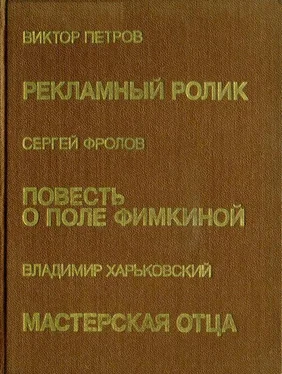
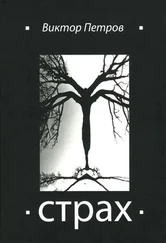

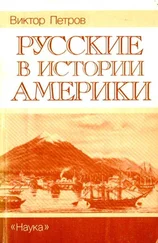



![Виктор Петров - Сага Форта Росс [Книга 1. Принцесса Елена]](/books/403195/viktor-petrov-saga-forta-ross-kniga-1-princessa-thumb.webp)

![Виктор Петров - Призыватель демонов [СИ]](/books/420209/viktor-petrov-prizyvatel-demonov-si-thumb.webp)


