— Назад! — бешено крикнул Гарькавый Ивину, который, схватив кинокамеру, устремился через застегнутый полог наружу.
Опрокинутый им светильник поджег спальный мешок. Гриня бестолково-старательно, словно ловя кузнечиков, захлопал квадратными ладонями по пламени.
В упор на жуткий рык Гарькавый выстрелил. Еще и еще. Рык перерос в оглушительный рев — перепонки рвет! — потом сквозь дробь дождя отчетливо затрещали сучья, и уже издалека рык вернулся эхом-угрозой.
— Фонарик, Костя, — тихо попросил Гарькавый.
Ивин услыхал, как лязгают собственные зубы. Сам себе не поверил, что секунду назад готов был снимать хищника в кромешной темноте. Он ощупью отыскал руку Гарькавого и отпрянул, будто невзначай коснулся в темноте покойника: пальцы у Гарькавого скрючились в ледяной кулак.
— Съемочки, маму их… Заикой можно остаться, — смущенно пробормотал Гарькавый. Не слыша в ответ сочувствия, спросил скорее растерянно, чем с вызовом:
— Перепугались, так, что ль, суслики?
— Подранох на нас, — угрюмо отозвался Гриня. — Не по-сибирсхи оно… Х самой зиме… Люди белховать придут, а мы им шатуна оставили…
— На ружье! Выйди! Добей его! Раз такой совестливый!
— Ну вот, снова и ругань. Нельзя, друзья, нам сейчас ссориться, — с пылом заключил Костя. Он уже пришел в себя и понимает, что из его уст опасения за раненого медведя истолкуются, как малодушие.
— Никуда от нас не увильнет — снимем все равно! Этого не удалось, значит, у избы подкараулим…
Ох, и трудно Косте сдержать нахлынувшую болтливость! Ох, и хочется добавить что-нибудь еще, например, про риск в искусстве!
Но поверженный Гриня и так уже тяжело сопит. А кроме того, совесть Кости отчего-то растревожилась сейчас. Вроде и волноваться не о чем, без сучка и задоринки не прошла ни одна серьезная съемка. Как там в песне: «…Нужна победа, мы за ценой не постоим!» Однако смутное чувство вины перед спутниками, кое подавлял с первого дня, вдруг выплеснулось наружу.
«Почему? — растерялся Костя. — Отец перенес пацаном блокаду в Ленинграде, мать не пострашилась зайти в барак к тифозным раненым, хлебнули лиха, дай бог! Но ведь не стали алкашами, как эти… Худо-бедно обеспечили меня, вкалывать научили — поклон им до земли! Не шаромыжничали, как эти, не воровали, покупали на свои! И я для сына честно постараюсь, иначе зачем и жить?! Рисковать рискую с ними на равных. Заплатить им? Заплачу! Просто я по-дурацки воспитан. Самоед, скорпион…»
Брезент вокруг дыр от выстрела отрывается целыми лоскутами. Костя осторожно посветил фонариком сквозь проем дыры: луч пересчитал стеклянные нити дождя и высветил козью голову со слипшейся шерстью. Костя спешно заложил стену палатки рюкзаками, и видение исчезло. Сердце стучало, как кузнечик в кулаке…
Гарькавый вслух продолжил свои воспоминания, его знобило, пережитое минуту назад требовало выхода.
— Старухи зыркают из окна — сожрать готовы, а у меня мочи нет ступить за порог. Сроду не якшался с этакой чистюлей! Заперла она меня в ванной, флаконов там всяких — уйма! Держись, Олежка, приказываю себе, нельзя ни глоточка! А она простыню на кровати постелила голубую, аж хрустит… Эта, как ее, наволочка тоже хрустит! Сама к подруге ушла ночевать. Ворочаюсь ночью, ворочаюсь… Потом плюнул — закатал матрац и даванул храповицкого на голой сетке. Утром увидала, губы кусает… Неделю прожили и не коснулся ее ни разу: трезвый вроде, а не могу на простыне, хоть караул кричи! Она наоборот: без чистого белья — наотрез! Уж поломал я тогда головушку… Гадаю, ну на кой черт ей сын от ханурика? Уж если прижало, что невмоготу, съездила бы в санаторий профсоюзный, где порядочные отдыхают, в Крым или на Кавказ. Однажды созналась. Воспитать, говорит, воспитаю сына без тебя, на пушечный выстрел не подпущу к нему, но кровь у него должна быть твоя — мужская, бешеная! Лава у тебя, а не кровь! Я плащишко на плечи и ходу от нее… Еще безотцовщину я не плодил, сам вырос сиротой… А письма ее во — под майкой храню!
Гарькавый зашелестел в темноте бумагой. У Кости перехватило дыхание, волна внезапной жгучей жалости к Гарькавому вышибла слезы из глаз. Не в силах оставаться рядом с ним, он нащупал топор и выполз из палатки наружу.
Дождь утихал. Пересиливая страх перед медведем, Костя быстро напластал сухих еловых сучьев, в считанные секунды распалил яркий костер — школа Грини даром не прошла. Мысль о том, что он единственный на белом свете, кто способен помочь Гарькавому, зарядила его безудержной отвагой. Он откинул полог палатки и вытянул рюкзак с бутылками.
Читать дальше
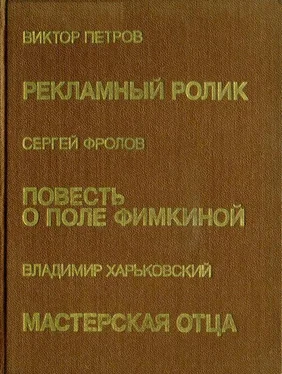
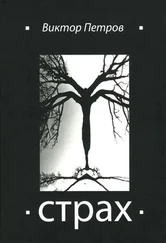

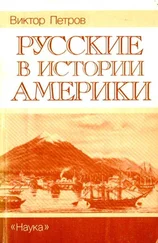



![Виктор Петров - Сага Форта Росс [Книга 1. Принцесса Елена]](/books/403195/viktor-petrov-saga-forta-ross-kniga-1-princessa-thumb.webp)

![Виктор Петров - Призыватель демонов [СИ]](/books/420209/viktor-petrov-prizyvatel-demonov-si-thumb.webp)


