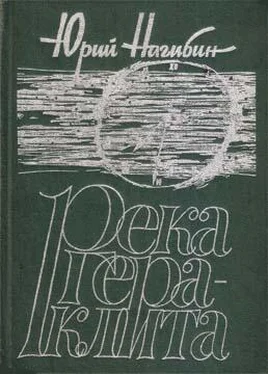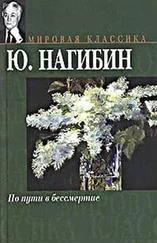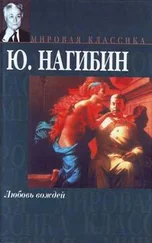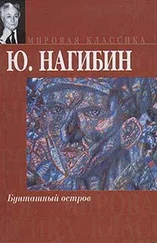Рахманинов подозвал мальчишку и купил газету. Во всю полосу колонны немецких танков, в овале — Гитлер с черной ямой отверстого, скошенного рта.
Он огляделся. Кафе, улица, прохожие жили своей безмятежной во всяком случае, внешне — жизнью. Синее небо, сверкающие машины, элегантные женщины, букетики пармских фиалок в руках цветочниц, солнечные блики на стволах каштанов — эти хрупкие очевидности налаженного бытия казались такими бессильными рядом с железными страшными коробками, уже запустившими свои моторы. Рахманинов бросил взгляд на портрет в овальной раме.
— А все-таки мы жили в век Шаляпина, а не в ваш век, ефрейтор Шикльгрубер!..
На другой день Рахманинов был у Шаляпина. Федор Иванович, в атласном, распахнутом на груди халате — в распахе виднелась заросшая седым волосом грудь, — с намятым от тяжелого дневного сна лицом, с редкими слипшимися волосами, толстый и обрюзгший, действительно походил на впавшего в немилость и враз постаревшего Фальстафа.
— А-а, Сережа, я тебя ждал!.. Чего вчера не пришел?
— Думал, ты устал.
— Я, милый, не вчера устал. Я от всей жизни устал. От болезни устал. Ничего, скоро отдохну.
— Будет тебе! Как ты вчера пел!..
Но не наевшийся похвал за всю свою триумфальную жизнь, Шаляпин сморщился и перебил:
— Это уже не я пел. Господь бог дал мне проститься с голосом. Вчера было чудо, Сережа, но не мной сотворенное.
— Ты это серьезно?
— Как на духу. Перед смертью не врут. Нет смысла. Ты ведь давно меня не слышал. Я потерял многие ноты. Чудил для галерки, играл под Шаляпина, выпрашивал аплодисменты. Стыдно вспомнить. Хорошо, что это кончилось. Все кончилось. Кругом одно дерьмо. Каши сварить не умеют, — сказал вдруг плачущим голосом. — А ведь мне ничего другого нельзя. Как ваша Марина кашу запаривала!.. — Он немного помолчал. — Скоро встретимся.
— Да что ты все о смерти?
— Спокойно, друг. Потому что я скоро умру, только и всего. Вот и приучаю себя помаленьку. Жил в рост и помереть хочу, не скрючившись.
— Кто знает свой час?
— Умирающий. Ладно, поговорим о живых. — Он помолчал, потом взял Рахманинова за руку своей большой, обхудавшей, ослабевшей рукой и сказал, как-то жалко и жадно заглянув в лицо: — Дай мне слово.
Похоже, Рахманинов догадался, о чем пойдет речь, и это было слишком серьезно, чтобы играть в любезность, подчеркнутое внимание к больному человеку. Он бросил коротко и жестко:
— Ну!
— Европа сошла с ума. Не сегодня-завтра грянет война. Ты это понимаешь?
— Допускаю. Я видел газеты.
— Ты читаешь газеты?
— Только когда рушится мир.
— Уезжай. Возвращайся в Америку. Сегодня, завтра. Послезавтра уже будет поздно. Немцы возьмут Париж, они возьмут все. Они выиграют все сражения, кроме последнего. Их разгромят, но это обойдется в миллионы жизней. Я хочу, чтобы ты уцелел. Знаешь для чего?
— Догадываюсь.
— Да… Когда все кончится, я хочу, чтоб ты вернулся в Россию, упал мордой в траву и отплакался за нас двоих.
Рахманинов сидел с белым лицом, он понял, насколько серьезно для Шаляпина то, о чем он сейчас говорил!
— Обещай, Сережа. Тогда я умру спокойно.
— Обещаю, — сказал Рахманинов. — Если сам выживу… Но хочу верить, что мы оба…
— Молчать! — рявкнул Шаляпин почти с былой мощью. — Не будь бабой! Запрещаю тебе присутствовать на моих похоронах. Я уже гадок, а буду еще гаже. Запомни меня вчерашним. Прощай. Лизаться не будем. Я очень тебя любил.
— А я тебя…
— Знаю. Помни: ты дал слово умирающему. — Шаляпин дышал тяжело, с присвистом, один глаз непроизвольно закрылся, тонкое птичье веко обтянуло выпуклое глазное яблоко.
— Я ухожу, Федя.
— Нет, это я ухожу.
Уже в дверях Рахманинов вдруг услышал тихое, как шелест травы:
Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки.
Позарастали мохом-травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою…
Они расстались навсегда…
В исходе лета 1939 года у Рахманинова отпали последние сомнения, что войны не миновать, но тщетно уговаривал он свою младшую дочь Татьяну Конюс уехать вместе с родителями в Америку.
— Я уже старый человек и, наверное, тупой человек, — говорил Рахманинов. — Никак не возьму в толк: неужели ты считаешь, что война пройдет стороной?
Таня, возбужденная и раздраженная настойчивостью отца, отказалась от «щадящего режима», который принят в хороших семьях в отношении пожилых родителей.
— Я уже сто раз сказала: война будет, будет! Я уверена в этом, и Боря уверен, и все наши друзья уверены.
Читать дальше