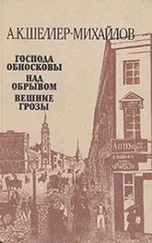— Батюшка, да я не желаю его отпускать от себя! — смиренным тоном произнесла Марья Дмитриевна, усаживая дорогого гостя. — Я ведь мать, мне…
— Глупости, глупости! — нахмурил брови Боголюбов. — Не расти же ему дураком! Поскучаете, а потом веселее станет, как он важным барином сделается.
— Уж где, батюшка, важным барином ему быть! — вздохнула Марья Дмитриевна. — Дал бы бог глаза матери закрыть и то счастье… Нет, уж вы не взыщите, а я его не отдам…
— Ну, этими вещами не играют! — внушительно произнес Данило Захарович. — Вы его отдадите и конец весь! Или вы хотите, чтобы он вышел таким же, каким был его отец?
— Батюшка, да ведь я мать, мать, — не могу я отдать своими руками свое родное детище, — заплакала Марья Дмитриевна.
— Ну что же вы думаете, что вы его на съеденье, что ли, отдаете? — строго спросил Боголюбов. — Как мать, вы должны бы были заботиться только об его счастье.
— Уж какое счастье в чужих людях жить, матери не видеть!
Еще долго плакала Марья Дмитриевна, смотревшая на отдачу сына в отдаленное училище точно так же, как смотрят простые люди на помещение своих родных в больницу. Ей казалось, что она отдает сына на верную гибель. Наконец было решено, что она поведет Мишу на баллотировку в воспитательный дом. Боголюбов не любил шутить и умел командовать. Вздыхая и поминутно отирая слезы, отправилась Марья Дмитриевна с Мишей в Большую Мещанскую, в то здание, где помещается ломбард. Там в большой зале во втором этаже уже было множество народу. Плохо одетые женщины, старики в потертых мундирах, дети всех возрастов — все это сновало, толпилось и шепталось в зале. Каждый с сердечным замиранием ожидал, чем решится судьба того или другого ребенка. Одни молились в душе, чтобы их дети были приняты; другие, почувствовав близость разлуки с детьми, желали только того, чтобы их детей забаллотировали. Посредине залы громко выкликались фамилии детей. Наконец произнеслась фамилия Прилежаева. У Марьи Дмитриевны замерло сердце. «Господи, не попусти, не накажи меня, грешную!» — шептали ее уста. Прошла томительная минута.
— Не попал! — раздался около Марьи Дмитриевны голос Миши.
— Слава тебе господи! Родной мой, родной! — воскликнула она, крепко прижимая к груди своего сына. — Пойдем, батюшка, пойдем скорее домой, — говорила она, как бы боясь, чтобы его не отняли у нее.
С сияющим лицом возвратилась она домой и объявила, что Миша не принят.
— Еще хоть годик поживет у меня, ненаглядный, хоть годик! — говорила она, обнимая и целуя сына.
Катерина Александровна не безучастно смотрела на радость матери; она хотя и не особенно радовалась тому, что брат не попал в училище, но в то же время ее и не очень сильно огорчал результат баллотировки, так как она уже знала, что Миша зачислен кандидатом и через год или через два года все-таки попадет в училище. Главный вопрос для нее состоял в том, примут ли ее брата в училище, а не в том, когда именно его увезут из дома. Он еще был мал и потому было можно ждать его определения, не боясь, что он «выйдет из лет», как выражаются о поступающих в казенные воспитательные заведения детях.
Для Катерины Александровны, после душевных бурь и волнений, наступали летние дни затишья; она вся должна была погрузиться в хлопоты по службе, которые оставляли очень немного времени для размышлений, для вопросов и сомнений. Приют принимал летом более оживленный вид, чем зимой: в нем шли переделки и крашенье комнат и полов; дети под руководством помощниц занимались «постройкой» белья и одежды, Зорина и помощницы хлопотали над счетом и рассматриванием разных принадлежностей детской одежды и столового белья, сортировали эти предметы по степени их годности и негодности, назначали одежду выросших воспитанниц младшим детям, для выросших же воспитанниц шили новое платье. Ежедневно приходилось наблюдать за перемещением кроватей воспитанниц из переделывавшейся спальни в столовую, за переселением столов из перекрашиваемой рабочей комнаты в классную. Пыль, известка, масляная краска — все это наполняло комнаты и заставляло особенно наблюдать за детьми, чтобы они не портили себе одежды; говор свободных от зимних занятий детей, шум колес и крики торговцев, доносившиеся с улицы в отворенные окна, своеобразное, монотонное пение штукатуров и маляров в коридорах, в комнатах и около наружных стен — все это вносило необычайное оживление в стены приюта. Порой Анна Васильевна, чувствовавшая скуку по случаю отъезда на дачи ее обычных партнеров, приглашала к себе на чай Катерину Александровну, и девушке было отрадно провести с работой вечерок в светлой и мило убранной спальне начальницы за мирными беседами с неглупою и опытною женщиной. Единственным темным облаком в эти дни жизни Катерины Александровны было опасение за участь Скворцовой, пробудившееся во время выпуска кончивших курс учения воспитанниц. По обыкновению, в это время в приют являлись разные барыни, искавшие горничных, и в числе их приехала какая-то статская советница Булычева, не то немка, не то еврейка, лет сорока пяти, в светлом шелковом платье, в белой с перьями шляпке. Она объявила мягким голосом и поминутно улыбаясь, что ей нужна горничная. Ей представили трех воспитанниц, искавших места. Она с улыбочкой поговорила с каждою из них, потрепала их по щечкам, назвала «милочками» и, наконец, остановилась на Скворцовой.
Читать дальше