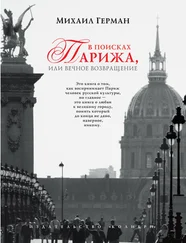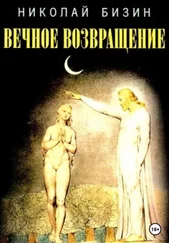Кружил огуречник вокруг Ольги, наговориться не мог, глядел на нее пристальными, жальчивыми глазами. Ребятишки от дедушки ни на шаг: луки им делал, стрелы, домики – все для Ольги.
– Ты его наставь, – учила мать, провожая Ольгу в Борки, – от отца отделиться. Зла-то и будет меньше.
Ольга махала рукой и безнадежно глядела перед собой, будто не было на свете отцовских Овражков, а в Борках молчали дома, улицы, небо, молчала она, Ольга, как по обету.
– Да не может он напротив матери дыхнуть! – зло и враждебно вспыхивала Ольга. – Где ему! И я не могу. И я заклеванная. Старуха две улицы одна обидит.
Ольга вдруг останавливалась, вглядывалась в отчаянное лицо матери, раскрасневалась и дрожащим голосом, прячась от ребятишек, вырезала из сердца слова:
– Мама, меня воротит от него! Видеть не могу Нила! Старуха любее! Ничего мне не надо! Доживу как-нибудь свой век!
Старуха боязливо и немо отворачивалась от дочери. Будто стояли на станции в Овражках тощие березы в слезах, плакали акации, мокрели крыши, капали слезы из железной трубы у водокачки, где поили на дорогу паровозы, и махала Ольга из окошка вагона неповоротливым и непросохшим платком.
Маялись бабы в Овражках, в Борках, били баб в низеньких домах, в домах высоких, у кабаков, у крылец, бежали по Навозной улице простоволосые бабы и ревели. Протрезвлялись мужья, тишели, бабы терли синушки колотиком, напускали на переносье платки. Собирались бабы на усторонье на речке бельишко полоскать и хаяли, хаяли белый свет. Будто и не было в Овражках, в Борках бабьего счастья. Жил напротив Ольги золотарь – с бочкой по ночам выезжал на главные улицы, – подглядела Ольга, как миловал и любовал свою бабу. А баба каждую ночь отворяла ворота, провожала вонючую бочку, закутывала золотарю шарфом шею, как залезать ему на бочку к вожжам. Чахли бабы, как березы от деревного червяка, как березы осыпали мелкий лист. В Овражках да в Борках шли бабы замуж для глума и битья от попа до попа. Гуляла на Навозной улице одна злая баба в обиде на мужа с нищим пастухом: осуждали бабу. Давал вструску муж-кочегар, бухали, словно о пустую бочку, кулаки, кричала баба голосом, – стояли за углами и подсмеивали.
Жил Нил, как у мачехи, у Ольги; будто нанятой мужик, спал на большом сундуке за печкой. Пятнадцать лет не пожалела. В большие праздники варили пиво и покупали рогом непьющие Онучины мужики. Ольга хмелела и мякла. Сама натыкалась на сундук и спала с мужем. Не глядела потом на него от поста до заговенья. И занывали зубы от брюха.
Копили деньгу на черный день, на ребят, на хворь в Борках: недоедали, недопивали. Отбирала у Нила мать волчью сыть, шила приданое золовке. Прятал от матери деньги сын, клал Ольге в приданый сундучок. Корила Ольга мужа насмешками: не умел делать радости нелюбимый муж. Будто укалывался Нил каждый раз об Ольгу, выпускала она колючки со всех сторон, надела платье на себя из ежовой шкурки – не дотронись.
Трудные подъемы идут под Угольским: Нил вертел круглым затылком и вперед, и в хвост поезда: разрывало, терял хвосты, прибегали вагоны вспять. Останавливали за стрелкой: кидали шпалы на пути. Вбегали вагоны ночами на станцию, коверкали поезда, давили народ. Снимали Нила с поездов «на маневры», в слесаря. Выслуживал. Догоняли вагоны в пути, под уклон, били деревянными красными лбами в зад, поднимались и лезли вагон на вагон. Зарылся раз стальной бык в наземь, выкинуло Нила под снежные щиты. Привезли на Навозную улицу без памяти. Первый раз лег Нил на женину кровать. Ребята не отходили от кровати. Спала Ольга на сундуке, ворочалась, уставала прямая спина.
Отлежался Нил, снова повел крутыми угольскими горками поезда. Уезжал в Овражки, не было день, другой, третий, неделю, приходили вести о крушениях, о сломанных осях, шейках, гнилых шпалах. Сводила Ольга брови, ждала – не вернется, не приедет, не закараб-кается у калитки. Сердце было холодно, как открытое зимнее окно. Скрипели двери, и сначала показывалась в дверях зачерневшая от сажи замасленная корзинка, а над ней темное лицо Нила. Кидалась вещами, резко передвигала, скребя дном, горшки, глядела не видя, не хотя видеть.
Ольга приглядывалась, как чавкал он за столом, тихий, широкий, как подрагивал корпусом – будто большие солдатские черные хлебы: возили их по Навозной улице из пекарни в казармы, – как жадно глядел он, не отрываясь, на кусок, покуда подносил его к большому рту. А дети вокруг него весело смеялись, гладили его по рукам, по круглому затылку, заглядывали из-под локтей на медведя бровей, вытаскивали из жилетки маленький замусоленный карандашик, очиняли его тупым столовым ножом. Ольга вдруг вздрагивала: она ловила себя на каком-то клокотавшем в горле обидном и сладком нытье, раскрывала рот и нехотя улыбалась. Но как выстрел в темноте были эти забывчивые минуты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу