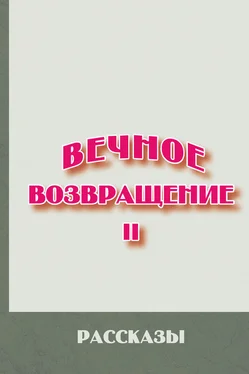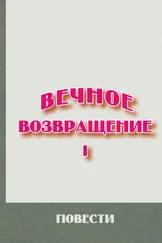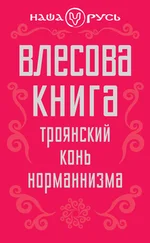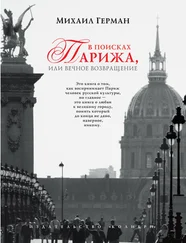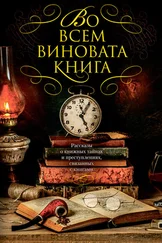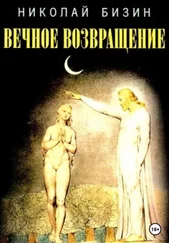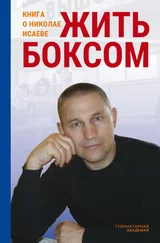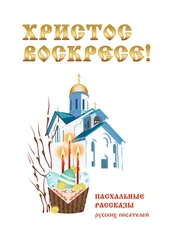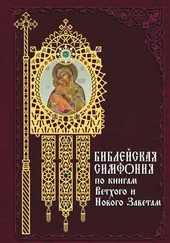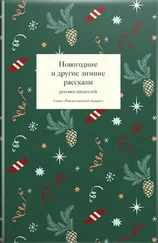Бежали вдоль железных путей по бровкам собаки, жеребята, коровы, брели пешеходы, странники, нищие – поезда шли, крича и грозя и плача свистками. На переездах, под уклоны, врезались в стадо, давили, кромсали, резали в ночном забредших на полотно лошадей, оставляя за собой в деревнях, селах, починках плач. Зимами в метельный вой резали волков, зайцев, лосей.
Вернулся раз Нил из поездки. Собрала Ольга на стол ужин, усадила кружком четверых ребятишек. Нил насупился, не ел, не пил. Вдруг он всхлипнул, заклохтал курицей – и закрыл лицо руками:
– Чело-ве-ка, человека я переехал…
И зарыдал, давя непривычное горе, затрясся:
– А у него… а у него… может… как и у меня… ребятишки!
Ольга захватила рукой горло, отодвинулась за кран, будто ожгло ей глаза медной искрой из самовара, будто увидела она того бездыханного человека на рельсах: несут его в дом, и гремят люди на лестнице ступенями.
Нил вытирал грязным, темным платком заплаканные глаза.
– Так совсем и задавило, папка? – спрашивали ребятишки. – Напополам?
И глядели любопытными, круглыми, сосредоточенными глазами. Ольга не глядя сказала:
– Ты не нарочно задавил.
И будто равнодушно отвернула кран и подлила в чайник кипятку. А ночью долго не спала, слушала бред детей, слушала тоненький далекий писк: то на сундуке плакал задавленными в подушку слезами Нил.
Ольга не знала, не понимала, как она встала с кровати, как подошла к сундуку и дотронулась до мужа. Он вскочил и напугал ее. Она очнулась. Постояла, забыла, зачем пришла к нему, вспомнила в темноте, морщилась и молчала. Нил грузно пододвинулся, давая ей место. Она повела худыми плечами, близко наклонилась над ним и звонко, как у глухого, спросила:
– Тебе ничего не будет за это?
Запнулась и добавила:
– Я… из-за ребят.
И он забормотал радостно, будто отлегла тяжесть, будто он и не плакал и не жалел человека, будто он не переезжал его на леженском мосту и не вытаскивал его из-под тендера большими кусками мяса в лохматых обертках одежды:
– Нет… Нет. Я остановил… Я не хотел. Человек поднялся у моста по лестнице. Отшатнулся назад, запнулся за шпалу… Паровоз и нанесло…
Вернулась Ольга на кровать, – будто поворачивался сундук под Нилом всю ночь, – и глядели они в одну и ту же темноту удивленными, остановившимися, невидящими глазами.
Сергей Дмитриевич Спасский (1898 – 1956) родился в Киеве. В первые революционные годы примыкал к футуристам. В 1924-м поселился в Ленинграде; во время блокады работал на радио. В 1951 году был приговорен к 10 годам лагерей, но уже в 1954-м освобожден. Умер в Ярославле.
1.
Никифор рос, как росло его поколение, – дети, для которых мировая война была достоянием истории, т. е., может быть, она, окутав их первую бессознательность тревожным воздухом, приводимым в движение немолчным разрывом снарядов и последними движениями умирающих, все же отслоилась на светочувствительных поверхностях мозга с тем, чтоб впоследствии проявиться как страстность поступков и резкость решений. Может быть, война, принявшая их в свои руки как повивальная бабка, оставила в их организмах воспоминания о каких-то огромных словах, произнесенных ею в напутствие новорожденным. И отсюда, например, в Никифоре укрепилось повышенное, хотя и неосознанное, чувство ответственности, будто именно ему и сверстникам надлежит дать последний ответ на вопросы, поставленные голосами пушек. Разумеется, ответственность пока выражалась мелкими признаками и в данное время предстояла ему как выбор профессии.
Он жил, как человек, практически знающий лишь один общественный строй, тем самым предохраненный от навязчивых сопоставлений со всеми разновидностями «довоенного уровня». От сопоставлений положительных или отрицательных – безразлично, – но сопровождающих всякого взрослого. Слова, изобретенные революцией, соответствующие разным проявлениям ее господства в стране, не выглядели для него непривычными или разрушающими. Это были точные обозначения, единственно возможные имена дел и предметов. Так, ему казалось естественным, что дворец лишь разновидность музея, или один из образцов дома отдыха, или разработан под клуб. Но представить себе в нем жилой обиход высокородной семьи было немыслимо и неинтересно.
Никифор недоумевал, когда вокруг его воспитания начинали вращаться споры о школьной советской системе. Его раздражало снисходительное киванье знакомых, их пренебрежение или сожаление. Он не давал им поводов для обидных сочувствий. Его не тяготили ни распространенный курс обществоведения, ни скудость литературных знаний. Школа не ущербляла его и не обездоливала. Наоборот, мерки, врученные ему в классе, как раз совпадали с веществами, образующими окружающий день. Впечатления, доставляемые извне, целиком размещались в сведениях Никифора, как в крепко сколоченных ящиках. Ящиков школа заготовила вдоволь, так что не было необходимости заказывать их заново и на стороне.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу