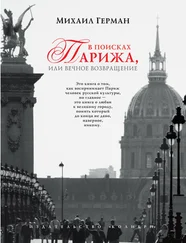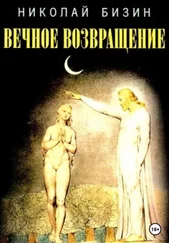Напрасно казалось тяготеющим к прошлому взрослым, что они обладали яркой и разнообразной действительностью, их детям досталось что-то вроде доски полированной и лишенной таинственных шероховатостей. Мир Никифора был окрашен здоровьем. В нем хранилось новое ценное качество: мир стал вполне объясним. Из него были вынуты сумерки.
Понятно текли облака, и вращалось понятное солнце. И люди понятно делились по напластованиям классов. Объяснимо настороженное распределение государств, правительств, колоний. И с механической точностью, как двенадцать полночных ударов, в этом мире громко пробил экономический кризис.
2.
Рояль он принял как напрасную тягость.
В продолговатый, отливающий серьезным глянцем короб приходилось вкладывать время и труд. Отрываться от любопытных ухищрений, каких требовала, например, фотография. Никифор вовлекался в многочисленные занятия. Состоял в фотокружке, заполнял стенгазету группами и видами улиц, он достиг известной умелости. Он всем занимался, волнуясь.
Был период нежности к раздвижному футлярчику, куда он мог спрятать все его занимавшее. Он таскал аппарат повсюду и, накормив его досыта вырезанными из действительности световыми пучками, чувствовал себя владельцем сокровищ.
И замкнуться в непроницаемой комнате и при тусклом свете красного фонаря ворожить над квадратными ванночками. С бьющимся сердцем он замечал, как бесцветная жидкость химикалий вызывала из глубин молочножелтых пластинок пятна и серые тени. Пятна съедали желтизну и рассаживались густо по стеклам. Вывернутая наизнанку, захороненная в пластинке жизнь в виде сплюснутых очертаний проступала наружу. Никифор боялся передержать в проявителе стекла. Жизнь могла перегореть и обуглиться. В это время его звали играть.
– Сейчас, – откликался он недовольно.
Но вскоре действительно шел к инструменту. Играл добросовестно, довольный, что рояль дается легко.
3.
Потом вошло радио и заставило комнату аппаратурой. Громкоговорители собственной выработки, ласковые ящички, на которых, как стаканы, стояли слепые, вымазанные ртутью, лампы. На голову обруч с наушниками. Будто привязанный за голову к сети электромагнитных вибраций, замотавших землю в свои звуковые ковры. Никифор засиживался за полночь. Словно кто-то снял ему голову и приставил к плечам мощный круг земной атмосферы.
Никифор двигал рычажки настройки, посылал себя в отдельные пункты Европы. Его потрясала находка новой, не слыханной станции. Руки замирали на рычажках. Он боялся, что станция выпадет из пальцев и провалится в ночь, как в мешок. Его не интересовало содержание передач. По коридору волны могли бегать фокстроты, порхать голос певицы и виться скрипичные нити. Важно было внедрить в комнату дальний пункт земной коры, поместить его здесь, на столе, среди проволок и микрофонов. Но зато, встречая в эфире интонации знакомого диктора, Никифор словно спускался на обследованное и обжитое место и давал себе передышку.
Музыка располагалась сбоку между школьными уроками и изучением иностранных языков. Она дремала в стенках рояля, как сонная рыба в аквариуме. Никифор подходил к ней в положенные часы и на короткий промежуток позволял ей ворочаться в комнате и хлестать плавниками. Музыка не претендовала на избыток внимания. Никифор опускал в нее механически крепнувшие, становившиеся все более опытными пальцы и, согрев их ее влажным теплом, возвращался к текущей работе. Мысли его не пересекались со звуками, которых он сам был виновником. Он играл инстинктивно, правильно, но совершенно бездумно.
4.
Но вскоре возникла новая и неотвязная страсть.
За отцом подчас засылали машину, и он брал в кабинку Никифора. Друзья отца из видных работников подъезжали к их дому в стремительных четырехколесных ладьях. Еще в детстве Никифор с недоумением трогал рубчатые, как из серого камня иссеченные, шины. С наслаждением добирался до твердой груши рожка и ударял по ней кулаком. Громкий лающий звук выскакивал из металлического зева. Никифор покрикивал и отпрыгивал в сторону. Но с колотящимся сердцем, испуганный и задыхаясь от радости, снова тянулся к рожку.
Вспышки страсти к машине превратились в заботливую зрелую влюбленность, когда отец приобрел мотоцикл. Порывистое и упругое сооружение, наряженное в зеленую краску. Оно нуждалось в уходе. Уход требовал навыков.
Никифор взялся за книги. От вещественного выпуклого представления о цилиндрах, каналах, подающих горючее, о суставчатой системе управления, о средствах изменения скорости, от обозримо выраженной в мотоцикле идеи нарастающего толчками бега Никифор переходил к той же идее, но рассказанной языком чертежей. Он находил фигуру мотоцикла как соотношение линий, нанесенных на плоскость листа. И обратно, из паутины пунктиров, углов и окружностей он высвобождал трехмерные формы машины. Его любовь не гнушалась теории двигателей и, распределенная в формулах, делалась меньше. Цифры лишь укрепляли ее. И она опиралась на вычисления, как пролеты моста опираются о быки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу