Клавдия Дмитриевна добыла из кармана один-единственный ключ, повернула им разок всего в какой-то дыре в двери, и дверь сама пошла, скрипя, кряхтя, зависая слегка на петлях, сама отворилась. Можно было и не замыкать ее на этот ключ, ничего не стоило, лишь толкнув посильней, отворить эту дряхлую преграду.
Вошли во тьму, вступили в запахи не противные, но чужедавние, странные. Пахло незнакомо, таких запахов просто не существовало нигде в том мире, в котором жили Геннадий и Зина. Не пылью, не старьем пахло, а если и пылью и старьем, то уж очень они тут были древними. Пахло древностью. И пахло еще как в зоомагазине, этот запах был знаком все-таки, пахло обиталищем старой птицы, со своими причудами, со своей едой-питьем, чуть было не подумалось, что и со своей дымящейся трубкой у клюва.
Клавдия Дмитриевна затеплила лампочку под потолком в тесной, затесненной неимоверно дубьем шкафов прихожей. Лампочка засветилась как-то не сразу вдруг, она вот именно затеплилась, а потом уж стала светить. И лампочка была древней формы, как груша, убереглась, не сгасла от времен почти доисторических, из раннего детства Геннадия глянула. Такие лампочки, выкинутые на помойку, ребята отыскивали, чтобы потом швырнуть обо что-то твердое, о стену из кирпича, а в ответ раздавался настоящий взрыв. Нынешние лампочки, маленькие, красивенькие, не разрываются так, они легонько лопаются. Зато и перегорают, не послужив почти людям.
— Прошу, молодые люди, прошу. Не ушибитесь только об углы. — Старуха повела их через узкий проход между шкафами, еще одну отворила дверь, едва толкнув, она была не заперта. Оттуда, из комнаты, грянул дневной закатный свет. Коричневые, новенькие лучи. Сегодняшние.
Они вошли в комнату. Она оказалась большой, потолок был высоким, хотя квартирка двумя окнами прилегла почти к земле. Здесь все было старьем, слагалось из каких-то цветных лоскутов, развешанных по стенам, наброшенных на ужасающе провалившийся, бугрящийся диван, на узенькую коечку, по виду совсем солдатскую, прибранную, с чистым солдатским серым одеялом, с чистыми подушками горкой. Эта полоска серая, но чистая, была тут от жизни, а все прочее будто из вымершего. Нет, еще вот большая клетка, нарядная, дорогая, с бронзовыми креплениями — она тоже обжитой имела вид, хотя и стариной от нее веяло, но прочная была вещь, красивая, хоть в музее выставляй. Пьер слетел с плеча Клавдии Дмитриевны и, явно гордясь и похваляясь своими хоромами, сел на клетку. А вообще-то он тут повсюду жил, везде были следы его когтистых лапок, царапины от его поклевов. Он и ел-пил везде. Тут стояла чашечка, там виднелась плошечка.
А еще были на стенах фотографии. Во множестве. В разных причудливых рамках. Иная фотография совсем крошечная, а рама громадная, нарядная. И не было стариков и старух на фотографиях, одни только молодые лица. Улыбки были скромны, но молоды. Мужчины топорщили усики. Дамы, совсем молоденькие, в больших шляпках или простоволосые, но тогда с высокими прическами, были приветливы, простодушны, но и кокетничали явно, что-то такое изображая непременно — то ли невинность свою демонстрируя, то ли суля нечто сладостное, сокрытое за потупленным взором.
Картон с нынешними красавицами и красавцами внезапно очень к месту тут пришелся. Как приставил его Геннадий к стенке, так он тут и зажил, заискрился улыбками, место сразу нашлось. Конечно, совсем не те лица, и ужимок никаких в них не видно, все не то, не так, все естественно, мило-просто. А все-таки, а что-то и друг другу зов подает. Из былого — в сегодня, из сегодня — в былое. Ничто так не дается переменам, как человек. Смотришь на иную фотографию сегодняшнего парня, а он — надень на него кафтан да шапочку надвинь с бархатным верхом кульком, — а он, гляди, из опричной свиты самого Ивана Грозного, или, если поближе, если фуражечку надвинуть, он — гимназистик, студентик. Лица все в родстве, лицами стережет человек память о своих корнях, творит слепок родства.
Происхождение… Мы стали забывать про это анкетное понятие. Если про анкетное, то и правильно. Но происхождение — не пустое дело. И суть не в том, кто ты по анкете, хотя, конечно, если из трудового народа, то уже и сразу суть нашлась. Да, суть именно в том, каких ты корней, какого труда был твой отец, твой дед, твой, если запомнили в семье, и прадед. Суть — в корнях. А корни — они в почву входят. Суть в той почве, на которой вырос. Сорт твой человеческий — вот что важно. Говорят, нечего кивать на пережитки. Верно, зачем на пережитки все валить? Зряшное это дело. Не о пережитках прошлого, а о сбереженности из прошлого следует подумать, о сортности человека.
Читать дальше
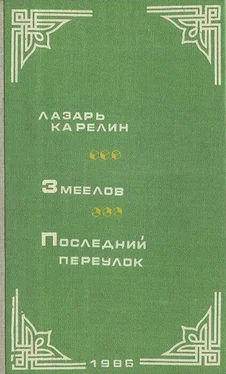





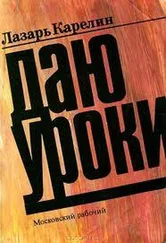

![Лазарь Карелин - Что за стенами? [сборник]](/books/386137/lazar-karelin-chto-za-stenami-sbornik-thumb.webp)
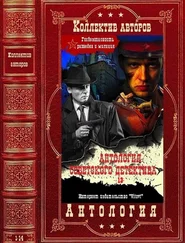
![Лазарь Карелин - Младший советник юстиции [Повесть]](/books/400310/lazar-karelin-mladshij-sovetnik-yusticii-povest-thumb.webp)
![Лазарь Лагин - Детская библиотека. Том 46 [Лазарь Иосифович Лагин]](/books/401001/lazar-lagin-detskaya-biblioteka-tom-46-lazar-io-thumb.webp)