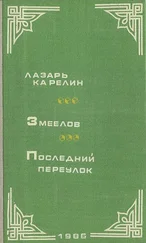ЛАЗАРЬ КАРЕЛИН
СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС
Повесть
1
В старину сперва раздавался цокот копыт в ночи — почему-то все известия тогда приходили ночью, если верить книгам и историческим фильмам, — потом было слышно, как спешивался всадник, как взбегал по ступеням, и тень его — это в фильмах, — сгорбившись, бежала за ним. Сама тревога вступала в дом, и, если верить книгам, сердце сжималось от предчувствия, чаще всего недоброго, а в фильмах обитатели дома сводили в страхе ладони, вжимали головы в плечи.
Нынче ничего подобного не происходит. Просто звонит телефон, и не ночью, зачем же, а в самый будничный дневной час, и ты будничным голосом вопрошаешь, как приучил себя: либо «да?», либо «алло?», либо «я слушаю». А оттуда, из трубки, откликается Судьба.
Андрей Андреевич Лосев не ждал голоса Судьбы и потому побрел к телефону без всякого трепета. Он не ждал от звонка и никакой, даже малой, радости — в невнятной жил поре, более того, пребывал в том жизненном состоянии, которое официально наречено было по роду его занятий простоем. Он был кинорежиссером в простое, то есть он же больше года не ставил очередного фильма, законно посему не получал зарплаты, числился в штате студии, но сидел дома, и из простоя его мог вызволить лишь новый сценарий, где бы режиссером был он, Лосев.
Такого сценария и вдалеке не было видно. Надоело, наскучило ставить немилые сердцу сценарии. Милые сердцу не попадались. Их не так просто сыскать, когда сердцу твоему за пятьдесят, когда поставлено два десятка фильмов, когда и имя есть, и звания всякие, и медали, но и страх холодит, что еще один проходной фильм тебе уже не простят. Кто не простит? А судьи кто? Сразу и не поймешь кто — судить ведь в искусстве дано каждому. Сложится мнение — и все, и засужен, и отодвинут, зачислен в сошедших с беговой дорожки.
Есть и еще один судья для тебя: ты сам. Конечно, этот судья часто нисходит до снисхождения, но если уж этот судья рассердится, то берегись. Доводить его до гнева не следует. Лучше уж простой. Собственно, почему простой? Ищется сценарий, неспешно, скрупулезно, чтобы по сердцу, чтобы всего себя потом вбить в картину, чтобы рвануться всей душой к себе лучшему из этой ныне серой, простойной скуки.
Телефон звонил, вызванивая какой-нибудь никчемный разговор с приятелем, какое-нибудь приглашение на очередную премьеру в Дом кино, а уж про фильм этот известно, что он не удался, и смотреть его нет охоты, или же что, напротив, фильм удался, и смотреть его поэтому тоже нет охоты. Телефон мог окликнуть и голосом женщины, прознавшей, что жена на съемках в другом городе, что с женой у него нелады, что у нее с другим вроде бы те самые начинаются лады, после которых слух пойдет о его очередном разводе. Самое время звонить к такому предразводному мужчине, самое время утешить его, заскочить на минуточку, прибрать в квартире, приговаривая: «Бедный вы, бедный!» Он ненавидел таких женщин, презирал, все про них понимая, но это были женщины его среды, его профессии, их было не избежать. Мир того дела, которым он занимался, был громаден, мирок людской, в котором он обращался, был ничтожно мал. У всех на виду, всем ведом и одинок до ужаса. В простое.
Андрей Андреевич поднял трубку.
— Да?.. — спросил он, увидев себя в полированной поверхности шкафа, отметив режиссерским глазом неимоверную скуку во всей своей позе, какую-то общую в себе пониклость, будто он не только лицом, но и всем телом скривился навстречу разговору. Когда-нибудь он заставит актера вот так же скривиться лицом, спиной, заведенной рукой. Не за- быть бы только. Ничего, он был памятлив на всякий жест и взгляд, рассказывающий человека. Профессия обучила.
А в трубке в ответ на его «да?» забился голос, разом, в миг один распрямивший его, словно взорвалась в нем кровь.
— Андрей Андреевич?.. Это правда вы?
И все — и узнал! Голос ее и это ее словечко — «правда», которое она умудрялась вставлять чуть ли не в каждую свою фразу. Тридцать лет не слышал он этот голос, все тридцать лет, оказывается, помнил его.
Он знал: у женщин не стареют голоса. Стареют, конечно, но что-то в них уцелевает годы и годы. Что-то главное. Этот звук напевный, эта вот удивленность, готовность к удивлению, эта першинка в звуке. И эта вот «правда». Так это слово, с таким напором на него во всей фразе произнести могла только она.
— Да, это я...
Он снова поглядел на себя в полированную поверхность, увидел, что стоит прямо, приметил в своей позе готовность припустить бегом, Так было, когда она звонила ему — всегда в какой-то неурочный миг,— когда смешливо, напевно, удивленно, дружелюбно, с першинкой в голосе спрашивала: «Андрей Лосев, это правда вы?». «Где ты?!» — кричал он в ответ, едва сдерживаемый шнуром телефона. Она всегда оказывалась где-то очень далеко. «Бегу!» — кричал он. И бросался бежать. В ночь, через весь город, в кромешную тьму, где светилось ее лицо. Господи, какое это было лицо! Было!..
Читать дальше





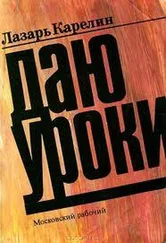

![Лазарь Карелин - Что за стенами? [сборник]](/books/386137/lazar-karelin-chto-za-stenami-sbornik-thumb.webp)
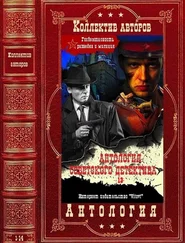
![Лазарь Карелин - Младший советник юстиции [Повесть]](/books/400310/lazar-karelin-mladshij-sovetnik-yusticii-povest-thumb.webp)
![Лазарь Лагин - Детская библиотека. Том 46 [Лазарь Иосифович Лагин]](/books/401001/lazar-lagin-detskaya-biblioteka-tom-46-lazar-io-thumb.webp)