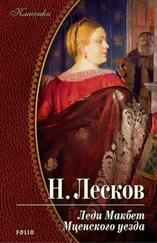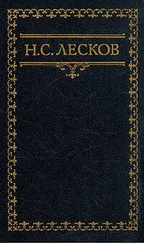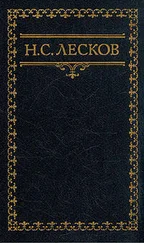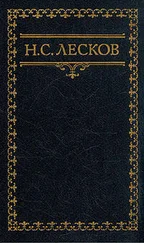"Наконец, хочется мне сказать, чтобы вы поклонились от меня графу Николаю Александровичу" (т. е. Протасову). (Прим. автора.)]
Андрей Николаевич Муравьёв тоже почувствовал, что "сё настал час", для которого он пришел в мир.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
На время отъезда Нечаева к жене, болевшей и умершей, как разъяснил Исмайлов, ради предоставления врагам ее мужа полного удобства столкнуть этого зазнавшегося человека с места, "должность обер-прокурора исправлял товарищ министра народного просвещения, гусарский полковник граф Н. А. Протасов".
Какова была подготовка графа Протасова к занятию обеих высоких должностей, которые были ему теперь вверены вместо командования гусарами, давно известно. Впрочем, мы можем это очень кратко напомнить словами справедливого curriculum vitae, {жизнеописание (лат.)} которое прописал ему тишайший Исмайлов.
Граф Н. А. Протасов - "человек из знатной фамилии, с значением при дворе, по своей матери и тёще, бывших статс-дамами при покойном государе Александре I, лично любимый императрицею как отличный танцор, воспитанник иезуита, приставленного к нему в гувернеры, - гордый не менее своего предместника" (т. е. Нечаева).
По-видимому, такой человек не отвечал даже и должности товарища министра, на которую у нас порою были назначаемы люди очень малого образования: но для управления синодом он, очевидно, как будто совсем не годился. Мысль сделать Протасова обер-прокурором могла разве прийти только ради шутки.
Обыкновенно назначение это ставят как бы в вину императору Николаю, но он едва ли не менее всех причинен в этом назначении. К удивлению, до сих пор очень немногие знают, кто именно был настоящим автором этой несчастнейшей мысли, принесшей церкви русской чрезвычайно много истинного горя и ущерб едва ли когда поправимый. А автор этот был не кто иной, как Андрей Николаевич Муравьёв, который, действуя в качестве штатного дипломата при митрополитах, перехитрил самого себя - нанес синоду такой удар, отразить который после уже и не пытались.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Назначение в синод гусарского полковника, "шаркуна и танцора", каким, может быть не совсем основательно, считали графа Протасова, - изумило столицу. На месте товарища министра народного просвещения он как-то не столь казался неуместен. На этой должности и тогда уже привыкли видеть людей, имевших весьма малое касательство к просвещению, и с этим уже освоились. Может быть, это даже считали до некоторой степени в порядке вещей. Тогда у многих было такое странное мнение, что будто просвещение в России не в фаворе у власти и терпится ею только по некоторой, даже не совсем понятной слабости, или по снисхождению. Снисхождение это оказывалось пустой и вредной западной модой, которой очень бы можно и не следовать. Но кто понимал дело лучше и вообще был политичнее, тот не усматривал и несообразности, а только одну политику. Выводили, что в этом странном распределении должностей втайне проводится принцип "чем хуже - тем лучше". Стало быть, по министерству просвещения могло случиться всё, ибо, говоря откровенно и без обиняков, просвещение тогда многими считалось силою вредною для государства, а о своих врагах и вредителях никто радеть не обязан. Но православие - дело совсем другое, и оно потому стояло совсем на ином счету. Тогда находились только три начала жизни: "православие, самодержавие и народность", но из них, как сейчас видим, "православию" давалось первое место. В тройственности этих, объединявшихся в России и крепко её связующих, начал православие как бы даже старейшинствовало и господствовало. И это, разумеется, было прекрасно. Что же иное достойно быть поставленным выше веры? Разве не она окрыляет надежды и питает любовь, без которых человеческое общество стало бы табуном или стадом? Но если это так, то тогда как же столь великое дело вверить человеку, который не только ничего в церковных делах не понимал, но ещё на несчастие был дурно направлен каким-то иезуитом и до того предан лёгким удовольствиям света, что наивысшая похвала, которой он удостаивался, выпадала ему только за танцы...
Какой же это, в самом деле, обер-прокурор для святейшего синода?
В обществе решительно не допускали, чтобы Протасов мог сделаться обер-прокурором синода. Что он был сделан товарищем министра народного просвещения, то Исмайлов справедливо замечает, что это относили к заслугам "тёщи и матери" Протасова и к тому, что он нравился императрице "как отличный танцор". К тому же относили и данное Протасову поручение исправлять должность синодального обер-прокурорства на время отъезда Нечаева, по причинам "предуготовленным Провидением". Но все были уверены, что это не имеет долговременного значения и допущено только на короткий срок для удовольствия покровительствовавших Протасову дам. Говорили: "Он в короткое время ничего не напортит, а между тем Нечаев снова возвратится".
Читать дальше