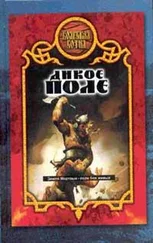— Вы знаете, что это такое? — Шеффер положил на стол сильно заржавевший ракетный пистолет.
— Это… детский пистолет.
Несмотря на то, что появление пистолета было совершенно неожиданным — по возвращении с берега, 6 июня, Осокин сунул его под дрова в сарае, потом раза два засовывал его все поглубже, а потом и совсем о нем забыл, — Осокин не испугался: улика ему показалась несерьезной.
— Детский?
— Конечно, детский. У него такое широкое дуло.
Шеффер не смотрел на Осокина. Большие голубые
глаза немца были стеклянны, прозрачны и безмятежны. Он говорил по-французски очень хорошо, только иногда проскальзывал немецкий акцент.
— Мы нашли его в вашем сарае. Как он туда попал?
«Сказать, что я собирал в лесу грибы и нашел его там? Нет, это будет казаться совершенно невозможным. Нельзя раздумывать».
— Не знаю. Мой сарай выходит на улицу. Мне его могли подкинуть.
Осокин почувствовал, как у него вдруг тонко и противно засосало под ложечкой. «Вот растяпа — забыл…»
Вы знаете, что было распоряжение о сдаче оружия. И даже неоднократно повторенное.
— Оружия, но не детских игрушек.
— Так что вы знали, что пистолет у вас в сарае и все же не сдали его?
— Нет, не знал, но если бы я его нашел, я решил (бы что это детская игрушка, забытая владельцем дома, в котором я живу.
Наступило молчание. Осокин почувствовал, как, заглушая сосущую под ложечкой тошноту, в нем поднимается ненависть к сидящему перед ним немцу. Эта ненависть родилась в нем не потому, что он, Осокин, допустил промах и не выбросил сразу ракетный пистолет, тем более, что у него и ракет больше не оставалось («поскупился, дурак, а теперь людей насмешил. Если бы это еще был настоящий револьвер…»), нет, эта ненависть была почти физической и родилась в ответ на то, как с ним разговаривал Шеффер. Вопросы, которые он задавал, были вопросы естественные, и их, вероятно, задал бы любой следователь, но манера разговаривать, равнодушная, даже отсутствующая какая-то, прозрачные и невидящие глаза, полное безразличие к тому, что перед ним стоит человек, — вот что было невыносимо.
Молчание затягивалось. Шеффер перебирал лежавшие перед ним диеты бумаг. На некоторых он делал короткие пометки большим синим карандашом. Осокин смотрел не отрываясь на нафиксатуаренный светло-каштановый кок, на линию пробора. Не поднимая круглой, и аккуратной головы, Шеффер сказал:
— Идите. Вторая дверь налево.
Последняя фраза была сказана по-немецки. Осокин было двинулся, но спохватившись, что он скрывает знание немецкого языка, сунулся в первую же дверь направо.
— Нет, не туда. Вторая налево. Мы с вами еще увидимся.
— Дело плохо, гораздо хуже, чем вы думаете.
Рауль повернул большую лысую голову к Осокину. Он говорил шепотом. Был уже поздний вечер, и в комнате почти все спали.
— Ничего не поделаешь, вам надо бежать, и бежать не откладывая. Иначе…
— Почему вы думаете, что так плохо? Ведь могли же мне подкинуть этот проклятый пистолет.
— Неужели вы думаете, что такое объяснение может удовлетворить господина Шеффера?
— Но вы сами, Рауль? Может быть, вы подвергаетесь большему риску, чем я.
— Если бы так было, стоял бы вопрос и о моем бегстве. Но пока что я думаю, что именно вам надо бежать в первую очередь.
— Я не могу бежать, оставив на острове мою дочь. Ей всего десять лет…
— Я не думаю, чтобы вас вызвали на новый допрос, до Нового года. Новый год через три дня. Доктор Шеффер предпочтет, чтобы потомились несколько дней неизвестностью. В течение этих трех дней надо устроить побег. Вам и вашей дочери. Если вас перевезут на Ре — будет поздно, из каторжной тюрьмы не убежишь. Отца Жана нам так и не удалось спасти.
Осокин поднялся с койки Рауля и подошел к железному столбу печки, светившемуся в темноте. Он сдвинул в сторону большую чугунную конфорку, язычок пламени вырвался наружу. Плоские багровые тени побежали по стенам, догоняя друг друга. Осокин сунул в печь сосновое полено. В трубе, выведенной прямо в окно, загудело весело и тревожно.
«Мы вам устроим побег. Мы… — думал Осокин. — Курно рассказывал, что недели две назад с острова на континент было переправлено одиннадцать немецких дезертиров. Но одно дело — дезертиры, другое — я с Лизой. Если бы я был один, а так риск увеличивается вдвое, втрое… Но еще рискованней оставить ее на острове. Детские лагеря…» Осокин вспомнил о перекладине, поднятой на один метр тридцать сантиметров. «Нет, все что угодно, только не это».
Читать дальше