Он достал кисет, не торопясь развязал тесемки, вынул бумажку, отсыпал в нее махорки, свернул, мучительно долго заклеивал языком, исподлобья посматривал на Мухина. Потом еще медленнее нашарил в кармане трофейную зажигалку, умело — это Мухин не мог не отметить — так, что не было видно огонька, прикурил и спрятал цигарку в рукав.
— А если сейчас в наступление?
— Как?! — Мухин опешил. — Сигнала же еще не было! А, Дудахин? Не было ведь?
Мухин не кричал, он просил, умолял оставить его тут еще хотя бы на минуточку…
И Дудахин сжалился.
— Ладно, оставайтесь. Не было сигнала. Если что — пришлю Верховского.
Он ушел — нет, не ушел, уходить было некуда — просто спрыгнул в соседний окоп, а Мухин, вместо того чтобы вернуться к Зое, остался стоять на том же месте. О чем они только что говорили с помкомвзвода? Кажется, о долге командира, обязанностях… О Зое не было сказано ни слова, скорей всего, и не сказали бы — есть все-таки мужская солидарность, но для Мухина уже одно то, что старший сержант догадался, кто сидит там, в темноте, стало почему-то решающим. И потом, в чем-то он, наверное, прав, этот всевидящий и всезнающий старший сержант. Через несколько минут, самое большее через час, вспыхнет зеленым светом небо над головой, дрогнет, застонет земля от гула, колыхнутся в ней серые спины, полезут нехотя наверх и пойдут, согнувшись, вперед, в неизвестность, навстречу славе или собственной гибели… Нет, не вправе он, Петр Мухин, один в эту минуту быть таким сказочно счастливым в этом окровавленном, стонущем мире!
Растерянный, удрученный он спустился в окоп.
— Ну что же ты? — Зоя ждала. Она потянулась своим лицом к его вспухшим от поцелуев губам. — Прижмись ко мне. Вот так… А теперь давай сюда руку… Слышишь, как бьется?
Голова его кружилась, в ушах звенело.
— Нет… не сейчас… После.
Она ответила одним дыханием:
— После — не будет. Перебьют нас тут… Да мне не себя — тебя жалко. Не мужик еще. Помрешь и знать не будешь, какая она есть, любовь-то…
— А ты знаешь? — встрепенулся Мухин.
Она взглянула озорно и даже головой легонько мотнула, дескать, что я, хуже других?
— Но это же не то! Зоя, милая! — он не замечал, что кричит. — Как ты не понимаешь! Любовь — это когда вокруг все прекрасно. Когда мир светел, когда нет войны, смертей и ты одна с любимым — вы оба одни в целом свете! А жизнь — бесконечна… Ты понимаешь меня?
Она смотрела, не мигая, и тонкие, выщипанные брови ее были подняты высоко на лоб.
— По-вашему, пока война — и любить никого нельзя?
— Да нет, любить можно. Но не так же! Не здесь! — он покосился на стенки окопа, оплывшие от дождей, на слякоть под ногами и не смог скрыть брезгливости. — И вообще — не сразу…
— Ах вот вы о чем! — Зоины глаза сузились, стали напоминать глаза какого-то зверя — может, рыси — такие же зелено-желтые, с коричневыми крапинками. — Пристыдить захотелось? Так, так… — она криво усмехнулась. — И на том спасибо. Только зря старались, товарищ младший лейтенант. — Он и сам понял, что совершил промах. Допустил непоправимую ошибку, сравнимую разве что с поджогом собственного дома, ошибку, которую ему не простят, не забудут и не дадут забыть… — Зря подумали обо мне плохо, миленький. — Зоя говорила неестественно спокойно, почти равнодушно и очень устало. Это равнодушие и эта усталость были той чашей горечи, которая, разом наполнившись, давила теперь на нее с каждой минутой сильнее, потому что не могла, не умела пролиться обыкновенными бабьими слезами. — Что верно, то верно: было у меня тут… Только нет в том моей вины и стыдить меня нечего. Вот вы сказали, люби, когда войны нет. По-вашему, может, и так. Только где он, этот закон? Где написано, что баба должна только рожать и никого не убивать? Нет больше такого закону, перемешалось все. Бабы в солдаты пошли. Что ж, может, оно и правильно. Только вот беда: шинель, сапоги нам выдали мужицкие, а сердце оставили бабье! Мужик мимо чужой смерти пройдет — не оглянется, а у нас, дурех, по каждому такому душа кровью исходит. И не токо за мертвых — за живых болит! Он еще и не раненый, и в наступлении-то не был, только собирается, а уж сидит, скукожился, будто приговоренный.
— Постой, может, ты и меня пожалеть надумала? — Мухину хотелось, чтобы она ответила «нет» — он не представлял себя «скукоженным».
— Вас — тоже. Только с теми все по-другому было. Иван — бронебойщик — он молодой, вроде вас, — все благодарил… «Ты, говорит, меня спасла, Зоя», «Как это, спрашиваю, ты еще только ТУДА идешь!» «Не от смерти, говорит, от позора спасла. Боялся я, что струшу. Каждая жилочка во мне дрожала. И вдруг — ты… Мне теперь ничего и не страшно! Только ты меня жди…»
Читать дальше


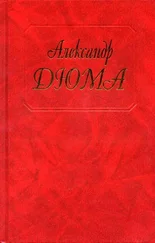
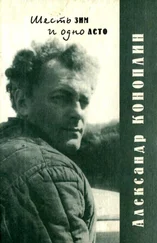


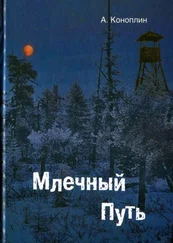



![Вадим Мельнюшкин - Затерянный в сорок первом [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/413585/vadim-melnyushkin-zateryannyj-v-sorok-pervom-sborni-thumb.webp)

