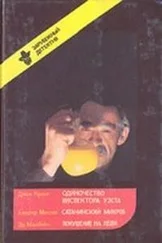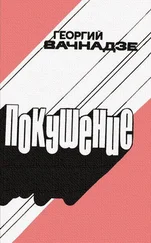В тот же день с ним пожелал поговорить по телефону некий Леман. Штурмбанфюрер тотчас же взял трубку, хотя как раз проводил допрос.
— Вы еще помните меня? — спросил Леман.
— Еще бы не помнить вас! — воскликнул Майер с нарочитой приветливостью. — Чему я обязан этим удовольствием? Не думаю, что вы просто интересуетесь моим здоровьем.
— Разве бы я посмел? — мягко возразил Леман. — Я намерен предложить вам сделку.
— Почему бы и нет! Итак, что же вы хотите?
— Настоящий паспорт, беспрепятственный выезд в Швейцарию и тысячу долларов наличными, конечно, настоящих долларов.
Штурмбанфюрер был настолько потрясен, что смог лишь через силу пошутить:
— А не позолотить ли вам еще и задницу, дружище?
Однако Леман деловито продолжал:
— Взамен я предлагаю вам бумаги графа фон Бракведе и, кроме того, точную копию бомбы Штауффенберга.
— Неужели? — спросил Майер, затаив дыхание. — Когда?
— Когда вам будет угодно. Ну как, договорились?
— По мне, хоть сегодня.
— Добро, ждите моего звонка в ближайшие двадцать четыре часа. С вами должно быть не более трех человек. В общем, баш на баш.
— Согласен, — сказал штурмбанфюрер. — Я немедленно распоряжусь обо всем.
— Прекрасно, — одобрил его заявление Гном. — Только не вздумайте надуть меня. Я не граф, и манеры у меня несколько иные. На слово я верить не привык. Если я даю, то хочу за это и получить. Это, мне кажется, как раз в вашем духе.
Главным обвинителем на процессах в «народном трибунале» выступал обер-адвокат Лаутц. Он благополучно пережил все превратности судьбы и впоследствии даже получал пенсию. Любые упреки и обвинения он парировал, заявляя, что выполнял лишь свой долг. И если не он, так кто-то другой все равно должен был его выполнять.
Угрызения совести его никогда не мучили, ибо он всегда руководствовался существующими законами, и ничем иным. Закон четко предписывал карать предательство и государственную измену смертной казнью, и Лаутц требовал вынесения такого приговора для каждого представшего перед его очами «изменника».
— Судьи «народного трибунала» великого рейха! — громогласно вещал он. — История прусско-германской армии изобилует примерами мужества, отваги, верности долгу. К сожалению, они не послужили образцом для тех людей, которых мы сегодня судим и чьи преступления так убедительно были раскрыты перед вами. Поэтому при оценке личности и ее деяний всякий раз трудно избрать ту меру наказания, которая соответствует составу преступления, разбираемого высоким трибуналом…
Это узкий круг подлецов, забывших о совести и чести… Ненависть к фюреру… жгучее тщеславие… человеческая неполноценность в широком плане… в сочетании с безмерной низостью и привели их к измене немецкому народу.
Замысливая подлое покушение на фюрера, по божьей милости окончившееся неудачей, они надеялись захватить в свои руки власть, а затем осуществить за спиной немецкого народа трусливый сговор с противником… Поэтому они не только предатели, но и гнусные изменники родины…
И так изо дня в день. Лишение почетных прав, если это не было сделано ранее «судом чести» вермахта, конфискация имущества, смертный приговор.
А в заключение, поддерживая требование главного имперского обвинителя, выступал Фрейслер:
— О расстреле не может быть и речи, поскольку на случай особо гнусных деяний в рейхе выработан специальный закон, согласно которому смертная казнь осуществляется через повешение… Суд сказал все, что следовало сказать…
Такой ход процесса считался в те дни вполне нормальным, и судебные чиновники твердо верили, что выполняют свой долг. Только некоторое время спустя и при других обстоятельствах они назвали эти события трагическими.
Иногда происходили и «забавные случаи», и тогда беззаботный смех раздавался в заполненном до отказа зрительном зале. Снисходительно улыбался и главный имперский обвинитель, испытывая чувство некоторого облегчения.
Так случилось, когда председатель «народного трибунала» Фрейслер вызвал к судейскому столу фольксгеноссин Эльзу Бергенталь, на вид женщину добродушную и скромную. Он обратился к ней с изысканной вежливостью:
— Мы пригласили вас сюда для дачи свидетельских показаний… — Затем Фрейслер наклонился вперед и заверил всех, что готов в лице фольксгеноссин Бергенталь уважать честь немецкой женщины, а она ради этой же чести обязана говорить только правду.
— Да, — кивнула в знак согласия фрау Бергенталь.
Читать дальше




![Ганс Андерсен - Ганс Чурбан[другой перевод]](/books/95480/gans-andersen-gans-churban-drugoj-perevod-thumb.webp)