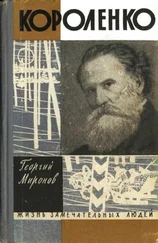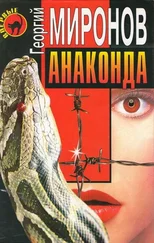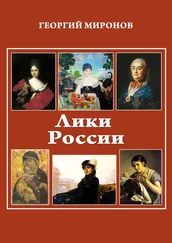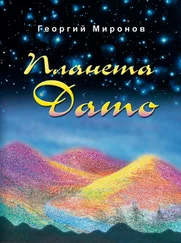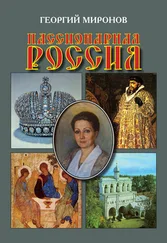Вершков оказался прав: на меня нагружают станок «максима» — его и положено носить второму номеру; первый номер — сержант Ильченко и боец из другого расчета поднимают 32-килограммовый станок за колеса и взваливают мне на плечи. Меня шатает от железной тяжести, начинает ныть нога, но «пищать» поздно. Ильченко мой и свой автоматы надевает на плечо, на спину приспосабливает на ремне щиток, кряхтя, поднимает и кладет на свободное плечо кожух «станкача», а в руку еще берет коробку с пулеметной лентой. Мы движемся цепочкой в наш тыл.
Блиндаж догорает. Батальон вытянулся на дорогу, построился, и капитан Распоров командует:
— Направляющая рота, шагом арш!
В синем ночном мире тишина. В ней тяжелые, размеренно-грозные шаги стрелкового батальона. Как пехотинцы, никто не умеет ходить. Все оружие на себе. Огромные кубанские звезды тепло помигивают на светлеющем небе. Пробегают по нему ножевые лезвия прожекторов. Мы идем по Крымской. Станицы нет — есть развалины, дома без людей. Мертва когда-то богатая веселая Крымская. Враг стремится создать «зону пустыни» — угоняет или расстреливает жителей, сжигает или взрывает дома, электростанции, клубы, больницы, мосты, портит шоссе, специальной машиной разворачивает железнодорожный путь. Как изобретательна мысль фашистов, направленная на уничтожение! Телеграфные столбы порваны толовыми шашками, фруктовые деревья подпилены, чтоб не могли плодоносить… Душная злоба сжимает мою грудь — ненавижу фашистскую мразь. Сбоку дороги стоит и смотрит на нас единственный крымчанин — грязно-белый громадный отощавший котище. Это ж надо: в станице, где жили тысячи людей, теперь бродит одинокий кот, одичалый, точно зверь! Больше ничего вокруг живого: ни мигающих огнями белых домов, ни людей, ни собак, ни скотины.
Жуткие мертвые развалины и истосковавшийся по людям кот. Да как такое вынести и остаться тихим и добрым интеллигентным мальчиком, каким растили меня?!
Позже видел я, как публично после процесса казнили виновников фашистских злодеяний. Тогда говорили о зловещей «душегубке» — замаскированном под хлебный фургон «газвагене». На площади под солнцем уродливо высились скелеты домов и гудело людское море. Пять грузовиков с опущенными бортами подъехали под виселицы, веревки с петлями пришлись как раз возле голов пятерых; стоявших в кузовах машин. Двое были предатели-полицаи, участники массовых казней, остальные — гитлеровцы, среди которых породистой фигурой выделялся фашистский чин, по чьему приказу проводились экзекуции. Он стоял как идол, как нераскаявшееся олицетворение зла, которое творил сознательно и беспощадно. Лаконичные, лишенные эмоций слова приговора разнесло над площадью, дернулись машины, и повисли те пятеро… Но мое сердце не забилось сильнее, хотя публичную казнь я видел первый и единственный, к счастью, раз в жизни. Тяжелая ненависть панцирем ограждала от жалости.
— Иди, котяра, подкормись, — кидаю кусок хлеба. Но вконец изголодавшийся кот хватает хлеб и уносится прочь, палкой вытянув облепленный репейником хвост.
Ни живого звука, ни огонька на бывших улицах бывшей станицы. Подчеркивает тишину ржавый железный скрип на крыше. Пахнет горелым деревом и кирпичом, печеными яблоками. Невиданно жирный бурьян поднялся высоко и победно, вылез на нехоженые улицы.
От Крымской дорога опрокидывается в прекрасную цветущую долину. Мы сходим с гребня, и долина открывается вся — сизая, чисто омытая утренней росой. Игривой змейкой сбегает с плоскогорья дорога и строго простирается до сине-розового рассветного горизонта. Как игрушечные, стоят вдоль белой дороги пирамидальные тополя, толпятся беленые хатки среди сливово-сизой поросли деревьев.
И я вздрагиваю от горячей волны восторга перед всем этим, емко именуемым моей Родиной. За нее сейчас воюю, ее не сделать пустыней.
Мы устало шагаем по еще не пылящей дороге, у нас под ногами расстилается эта драгоценная долина, а мы точно парим над ней. И, подчеркивая вечную сельскую ее красоту, вдали ползет игрушечный поезд с белой гривкой дыма над паровозиком.
Идти мне становится все тяжелее, все труднее подниматься после привалов, чтоб с пулеметным станком шагать в занимающейся жаре. Нога уже не «свербит», как выразился Серега Ильченко, а горит огнем. Приходится думать, как поставить ее, чтоб не оступиться и не упасть. Но как ни берегусь — подвернулась, и я со станком позорно грохаюсь в пыль. Не смог встать — нога подгибается, ее сжигает раскаленный сапог; я лежу и едва не плачу от досады и бессилия.
Читать дальше