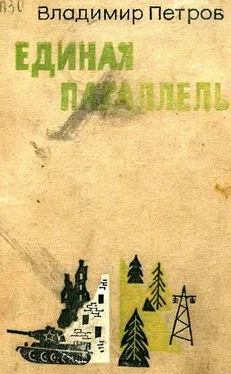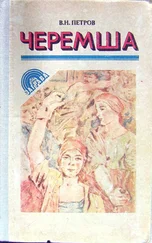— Ну ты и вырядился… — неодобрительно сказала ода. — Вроде базарного шкета. А кепчонка просто срам. Или хуже не нашел?
— Не нашел, — ухмыльнулся Полторанин, — А вернее, не искал, такую дали. Немецко-фашистского производства. Видишь — с хлястиком? — Сняв кепку, растопырил ее на пальцах, серьезно вздохнул: — Нельзя, говорят, без головного убора. Уж очень я приметный, белоголовый. А летим на ночь глядя, стало быть, получается демаскировка. Понимаешь?
— Значит, это ты летишь со мной… И надолго туда?
— Кто его знает. Как повезет. Мне покуда везло всю дорогу. Я ведь на войне с июня сорок первого — от самого Южного Буга. До сих пор только сдавал города, а теперь буду брать. Харьков возьму первым.
Она знала, что лететь им предстоит к Харькову, но не прямо к городу, а несколько западнее — на Золочев. Ну, а там еще в двадцати километрах от города, на лесной опушке, их должны ждать. Два костра на линии посадки.
Ефросинья вспоминала их первую встречу под Прохоровкой месяц назад, сравнивала: в лейтенантской форме он выглядел лучше. Хотя и в ней проглядывалось его неуемное бахвальство, нарочитая и показная бравада. Этого она не любила в мужчинах.
— Не боишься?
— Не… Привык. — Полторанин нагнулся, почистил немецкой кепкой пыльные сапоги, потом, помедлив, бросил ее на подоконник. Видно, и ему самому очень не нравилась эта клетчатая кепка.
— А мы тебя недавно вспоминали с одним земляком-черемшанцем. Устин Троеглазов, может быть, помнишь такого?
— Это углежог, что ли? — Гошка припомнил что-то, рассмеялся. — Знаю! Причесал он меня однажды, было дело. Прямо на свадьбе, башкой в дверь. Силен, старый хрыч! Что он тут делает?
— В аэродромной команде служит. Между прочим, не удивился, когда узнал, что ты в лейтенантах ходишь. Знаешь, что сказал? Война, говорит, хулиганов любит.
— А ништо! — не обиделся Гошка. — Я, может, со временем еще в генералы выйду. Воевать научился. Теперь только высшую грамоту освоить. После войны непременно пойду учиться.
— Не женился еще?
— Да пока нет. До войны не успел, а на войне это ни к чему.
— А я Николая ищу… — вздохнула Ефросинья. — Ты тогда правду сказал: он в самом деле где-то здесь воюет. На нашем фронте. Обязательно найду…
— Оно тебе надо? — рассмеялся Полторанин. — Ну и чудные вы, бабы, ей-богу! Кругом люди гибнут, а она залетку своего ищет. Ну какая может быть любовь на войне? Сама подумай.
— Дурак ты, Гошка… Хоть и полвойны прошел, а умнее не стал.
По легкомыслию своему Полторанин даже не понял, не заметил, что задел ее самое больное, самое ранимое.
Он произнес вслух то, о чем она старалась не думать, упорно отгоняла от себя, хотя в глубине души и понимала, что это грубая и трезвая правда. Гошкины слова, будто порыв студеного ветра, захолодили грудь, захлестнули огонек, теплоту которого она почувствовала в это необычное утро.
Ей и верить-то пока не во что — ничего реального нет, кроме этой газеты. А дальше? Допустим, она даже узнает адрес. Для чего? Чтобы с обмирающим сердцем ждать письма и однажды, вдруг узнав о его гибели, изойти в слезах безутешным бабьим криком…
Нет! И все-таки ей жалко было не себя, а Гошку Полторанина. Не потому, что жизнь еще не научила его настоящей доброте и он мимоходом обидел ее. Просто ему будет намного труднее, чем ей: и сегодня, и завтра и потом в будущем, до тех пор, пока он не встретит человека, о котором станет думать прежде, чем о себе самом.
— Ты меня извини, — сказала Ефросинья, — Не обижайся, я вгорячах….
— Да была нужда! — отмахнулся Гошка. — Я знаю вас, летчиков — народ психовый.
…Взлетали ровно в полночь — по слабо мерцающей ниточке аэродромных огней. Затем самолет большими кругами стал набирать высоту, лез на самый «потолок», чтобы оттуда, неслышно планируя с выключенным мотором, перескочить через линию фронта.
Хоть и была глубокая ночь, кромешной темноты не чувствовалось: земля виделась внизу размытой, исчерна-пятнистой, кое-где крапленная странной рябью меловых откосов. Изредка вспухали осветительные ракеты над передним краем, расплывались разноцветными плоскими блинами. В каждом таком блине проглядывалась призрачная мертвенность изрытой фронтом земли.
Ефросинья вспоминала дневной разговор с лейтенантом Полтораниным, удивляясь себе: что-то давненько она не извинялась перед мужчинами… А тут на тебе: учтиво извинилась. Да и в общем-то по пустяковому поводу: подумаешь, обозвала дураком. Так он, Гошка, и есть дурак, если разобраться да припомнить все его довоенные шашни в Черемше.
Читать дальше