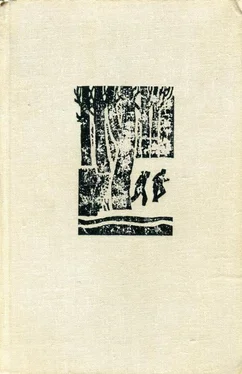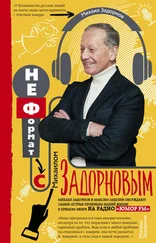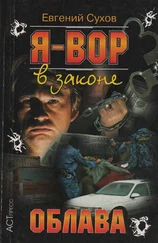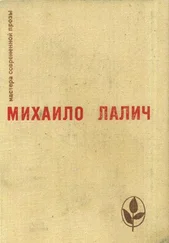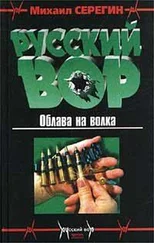— Все тут, — ответил Вуле. — Отогнали их.
— Где Качак и Байо с товарищами?
— Ушли раньше. Землянка пуста.
— Пуста, — повторил, точно эхо, Видрич и закрыл глаза.
Он представил себе пустую землянку: лежит внизу, черная в белом, будто беззащитная женщина. «Разденут ее, — подумал он, — осрамят, будут показывать на нее пальцем, назовут Полтавой, Одессой или Коминтерном… И пусть называют, — примирился он, — ведь это временно. Лучше так, чем если бы в ней погибли люди. Если хочешь жить, всегда надо что-то покидать, оставлять пустым и беззащитным и завоевывать новое. Жизнь не только вечное движение, в сущности, жить — значит оставлять и брать, гнать друг друга, переходить из одной пустой землянки в другую. Если стать на такую точку зрения, то война лишь сгусток жизни, когда этот переход ускоряется до такой степени, что и та и другая сторона уже не ощущают, как соскальзывают в последнюю землянку, из который уже нет выхода… Наши с Поман-воды, вероятно, пошли вдоль Рогоджи, к Рачве. Хорошо, если они доберутся до Рачвы, там ущелий да оврагов в чащобах хоть отбавляй, траншея к траншее; там и один человек может продержаться до самой ночи, а ночью уйти».
— Видно, они нас звали, а мы не слышали, — сказал он. — Жаль!
— Сомневаюсь, — возразил Арсо. — Если бы звали, они бы выдали себя.
— Наверно, на Рачву пошли. Хорошо, если бы прорвались. И нам легче, будем защищать только себя.
— А мне это как раз и не нравится, — сказал Зачанин.
— Почему же?
— Человек не может бороться как следует, если борется только за себя, одиночки потому и гибнут. Потеряют связь друг с другом, некому на них смотреть, некому о них думать, устанут, и покажется им, будто нет смысла ради собственной шкуры выносить такие муки. Правда, нас тут целая компания — все за одного, один за всех, так-то лучше.
— До сих пор нам везло, — сказал Арсо Шнайдер, — диву даюсь, с чего бы это?
— И дальше так же будет, — подходя к ним, сказал Слобо Ясикич. — Смелым всегда везет.
Туман опустился на самое дно долины, сквозь него неясно виднеются на лугу ольхи, они стоят вдоль реки, точно разрушенные черные башни. Внизу все еще стреляют, время от времени шипит в вышине над головами пуля на излете. Люди сели на гладких камнях Софры между двумя установленными пулеметами — передохнуть, обменяться впечатлениями и похвалить Раича Боснича за то, что он первый заметил опасность и спас их от гибели…
Только Ладо остался стоять: он любовался освещенным солнцем простором, и ему казалось, что он плавно реет над извилистыми долинами, где стоят одинокие домики на два окошка, хуторки и опоясанные плетнями стога сена. «Красиво здесь, — подумал он, — и жизнь хороша — всегда что-то новое открывается. Вот если бы еще столько еды, сколько нужды! Хуже всего, что я никак не могу привыкнуть к этому «нету». Не могу понять, не укладывается в голове и неверно, что нет. Внизу есть! И сало есть, и теплый хлеб, и горячая кукуруза на противне есть — да такая, что пальцы обожжешь, пока отломишь и донесешь ко рту… Молчи, — приказал он самому себе, — и терпи, — нету! Так мать Юга Еремича говорила сыну: «Вечно тебе хочется есть, когда ничего нет, молчи, терпи, не срамись!» Не хочу и я срамиться — здесь я чужой!..»
Он поднял голову и несколько мгновений всем своим существом впитывал в себя теплое солнце и ясное небо. Его звали с Софры, махали руками, а ему кажется, что это чабаны: пусть себе греются на солнце! Черный луч, горячее всех прочих, раскаленный и острый, точно длинное копье, внезапно вонзился в тело. Прежде чем понял, что случилось, он уткнулся головой в снег, и его открытый рот, готовый изрыгнуть ругань, наполнился ледяными кристаллами. Ладо почувствовал, как у него от боли дергается нога. Боясь показаться смешным и осрамиться, он встал. Завертелись круги, забегали в глазах черные мухи. Одной рукой он провел по онемевшим скулам, другой принялся искать пронзившее его копье. Тщетно, ничего нет, — видимо, очень тонкое копье, застряв в теле, переломилось и упало. Чьи-то руки схватили его, и люди, крича и укоряя, потащили его и толкнули в укрытие.
— Куда тебя ранило? В ногу?
— Глупый человек, вот и получил…
— Снимай штаны! — крикнул Шако и отстегнул ему пояс.
— Погоди, — пытался было он защищаться. — Я с Митрова дня не мылся.
— Брось дурака валять!
Его положили на расстеленную шинель, Раич Боснич нагнулся над ним. Ощупав его, он помянул пулю, и в рану вонзилась тупая боль. От боли небо потемнело и начало падать, а огромная Тиамат, личный враг Ладо, устремилась к нему, уселась на грудь и принялась облизывать щеки слюнявым языком, обросшим седой щетиной.
Читать дальше