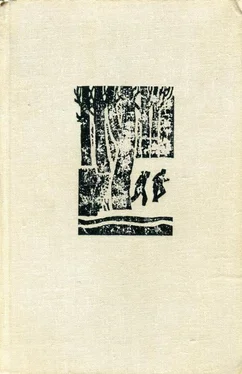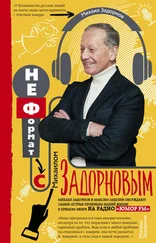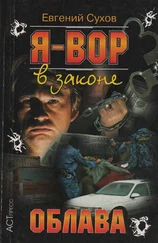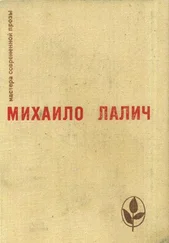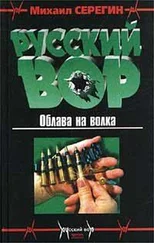Филипп стоял, плевал в снег и чувствовал потребность любым способом оторваться, уйти от этого сброда, что прячется по укрытиям, ползает на брюхе по снегу, вопит и стреляет. Никто не смотрит, куда стреляет; а если смотрит, то старается целить мимо. Все время стоит крик, понять невозможно, что кричат, да это и не важно, главное поднять шум и в этом непрерывном всеобщем галдеже, как в лесу, скрыть свою трусость и перерядить ее в геройство. «В каждой войне это так, — подумал он, — и в жизни тоже. Лучше лишиться чести, чем головы. Дерьмо слаще смерти, и самый большой герой тот, кто выживет. Дети героев по чужим дворам скитаются… А может, не только от страха, — заметил он про себя. — Не такие уж они трусы, и не так уж боятся, да и чего бояться? Просто не хотят люди! Жалко им коммунистов, хотелось бы их приберечь и пропустить, чтобы потом на них опереться, если потребуется. Ведь это их соседи, племянники и двоюродные братья, — не такие они дураки, чтобы, здорово живешь, убивать своих ради прихоти богача Филиппа Бекича или вонючего брюхача Рико Гиздича или ради похвалы майора Паоло Фьори, который будет их презирать независимо от того, убьют они кого или нет.
— Ты чего стоишь, Филипп Бекич? — крикнул ему Тодор Ставор каким-то противным голосом, от которого Бекича передернуло. — Патроны кончились?
— Нет! Патронов у меня хоть отбавляй.
— Почему же не стреляешь?
— Тебе мало, что вы стреляете впустую? Может, еще помощи надо, мразь голодраная!
Ставор посмотрел на него и оторопел: шаль болтается, штаны измяты, лицо землистое, ус изгрызен, глаза налиты кровью и горят недобрым огнем. Ставор пожал плечами: никогда еще он его таким не видел, не знаешь, что и сказать. «Гиздич его уел, — подумал он, — змея змею укусила. В точку попал, пусть и Свистун Бекич почувствует, каково бывает, когда тебя сильный пинает. Гиздичу он ничего не может сделать, вот на мне и отыгрывается. Такое нынче время: сильный слабого повсюду за глотку берет, словно только это дает право на жизнь. Наш человек уж так создан — не может стегануть лошадь, бьет по седлу. Но, во имя творца небесного и его окосевшей правды, до каких пор я буду тем седлом, до каких пор буду позволять, чтоб всякая сволочь, которой подступит к горлу, на меня все выблевывала? Смогу ли я отыграться на ком-нибудь и что тогда будет?»
— Помощи мне не надо, — примирительно сказал он. — Такая помощь ни к чему. От тех, кто стреляет не глядя, проку нет. Ты хоть бы поглядел на них, потому и говорю.
— И глядеть не хочу! Насмотрелся я сраму, но такого еще не было.
— Если мы их сейчас упустим, через пять минут они пробьются до Кобиля, а там и до Рачвы. И тогда будет еще больший срам, потому что там им уже никто ничего не сможет сделать. Не надейся, что их задержат итальянцы или мусульмане.
Ставор вовсе не хотел его задеть, но случайно наступил прямо на больную мозоль. Бекич на мгновение остолбенел, а потом взревел:
— Подлец, когда я надеялся на итальянцев, а тем более на турок?
— Тогда хоть уйди отсюда, видишь же, стреляют.
— Делай свое дело, басурман, поганая душа, а меня не учи! Кто здесь командир, я или ты?
Ставора передернуло, дрогнули губы, — он понял, что его ждет гибель, если он тотчас не проглотит уже готовый сорваться с языка ответ. И Ставор проглотил его, понурив голову. «Вечно меня угораздит забыть о старшинстве и заговорить с ним, как бывало до войны, на равных. Каждый раз попадаю впросак, а потом вынужден терпеть и проглатывать такое, что хоть медом мажь, все равно стоит колом». Он даже побоялся посмотреть на Бекича, чтобы тот не принял это как оскорбление или угрозу. Отвернувшись, раз уже не может от стыда и досады провалиться сквозь землю, Ставор тише воды, ниже травы вернулся к тому, чем занимался до сих пор. Трижды он брал на мушку последнего в удалявшейся цепочке коммунистов. Это был молодой парень в коротком сербском гуне. Этот гунь и привлек его внимание: должно быть, теплый, а парень, верно, не наш, прислали его откуда-нибудь, наверно, важнее прочих. Видать, толковый и ловкий: стреляет то в одну, то в другую сторону, не прячется, презирает опасность и не спешит от нее уйти. Ставор нацелился еще раз, выстрелил и тотчас понял, что попал.
Пуля прошла под ребрами и перебила крестец. Вуле Маркетич остановился и тяжело оперся на винтовку. Потом поднял голову, выпрямился и, словно ничего не случилось, крикнул в сторону Белой:
— Браво! Ты подстрелил Вуле Маркетича, можешь гордиться!
Эхо повторило его громовой голос, придав ему глухой призвук неведомого потустороннего мира, который редко дает о себе знать и тем сильнее поражает тех, кто его вдруг услышит. Стрельба на какое-то мгновение прекратилась, наступила тишина, нечто вроде перемирия, заключенного для того, чтобы каяться и удивляться. И многие в эту минуту вспомнили предсказание пророка с Полицы, слепого старца Стана, когда он впервые услышал выстрел и ощупал винтовку:
Читать дальше