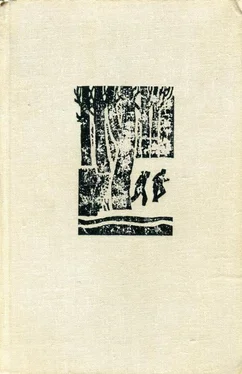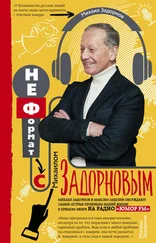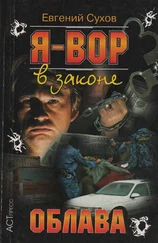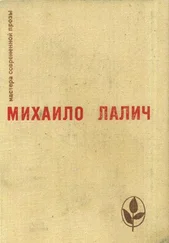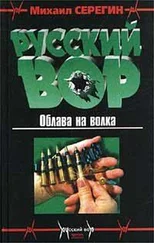— Словно и не человек, — заметил Момо. — Может, никогда им и не был.
— А кто же он?
— Машина — налаженная так, чтобы бежать, как только увидит человека.
— И не удивительно, такова жизнь. Человек лишь предвестник того, что другие люди рядом и облава приближается.
— До каких пор так будет?
— Не знаю. Либо мы, коммунисты, покончим с облавами, либо…
— Что?
— Будет то, что пророчил старец Стан: и побежит человек от человека за тридевять земель.
— Слышишь?.. Стреляют где-то около Повии.
— Слышу, стреляют. А что я могу сделать?
В эту минуту кто-то с левого берега Лима заметил одинокого беглеца, испугался и выстрелил, чтобы поднять на ноги милицию на шоссе. В ответ, прежде чем убежать в укрытие, выстрелил с моста часовой, потом из села донеслись еще два выстрела, раздался какой-то зов на горе и протяжный зловещий вой собаки, которая не привыкла сидеть на привязи. Запричитали женщины по хуторам и принялись сзывать детей. Закукарекали, увеличивая разноголосицу, петухи, радуясь жизни, солнцу и хорошей погоде. Поредевшие после мобилизации милицейские стражи, не успев опомниться от сна или картежной игры по трактирам и баракам, перепугались и беспорядочной стрельбой еще больше усилили панику. Им казалось, что опасность нагрянула внезапно, подобно второму пришествию. Должно быть, большие силы, если решились напасть среди бела дня. Они выбегали и лихорадочно стреляли во все стороны и одновременно кричали:
— Кто идет?
— Где?
— Откуда?
Другие отвечали на вопросы вопросами:
— Сколько их?
— Где наступают?
— Кого убили?..
Все это вместе с эхом слилось в неразборчивое э-эй-бе-ее-й-не-пу-уу-ска-а-а-й-ай-ай, сопровождаемое визгливым, наводящим жуть, неумолчным воем.
Им казалось, что на их товарищей, внизу и наверху, одновременно произведено нападение, что они в опасности, оттого и взялись причитать. Раз так, пусть всяк спасает свою шкуру, как знает и умеет. Все забрались в укрытия, попадали на животы, взяли на прицел ближайшие рощи и не жалеют патронов. А чтобы подбодрить себя, отпугнуть опасность, кричат во все горло. Кричат все, а поскольку не знают, что кричать, стараются, чтобы их никто не понял, а стреляют все с таким видом, будто совершенно точно знают, куда надо стрелять. И никому не приходит в голову выглянуть, разведать, перейти в нападение, хотя по стрельбе, к которой присоединились села по ту сторону Лима и скрытые от глаз поселки, а особенно по все возрастающему реву можно было подумать, что цепь сомкнулась и облава приближается к островерхой горе, которая стоит между Лимом и Орваном.
— Обнаружил нас тот гад, — сказал Гавро. — Надо было его убить.
— Почему же не убил? — спросил Момо и пожалел: ведь решил, что не будет с ним говорить.
— И вы могли, почему не убили?
— Оставьте, — сказал Качак, — с этим покончено.
— Пощадил я его, несчастный какой-то. И всегда так: как пощажу, потом раскаиваюсь.
— Надо поискать другое место. — заметил Момо.
— Время терпит, — сказал Качак. — Подождем. Который час?
— Часы не у меня, остались у Байо.
«Может, больше и не тикают», — подумал Качак.
Старые царьградские часы, память о деде, о его путешествиях на Мальту и рассказах — все еще тикали в маленьком кармашке под поясом у Байо. Тикали они все то время, пока Ариф Блачанац раздумывал, где бы зарыть убитого и как защитить его от бешеных собак, которые налетают со всех сторон. Наконец он решил похоронить его на старом греческом кладбище за Гркинем, где бог знает с каких времен не хоронили. «Надо бы и свечу зажечь, — подумал он, — как требует их вера, но как ее зажигать, знает только поп, а попа нет. Убежал поп из Топловоды, да если бы и не убежал, то попы с коммунистами не в ладу, и та, и другая сторона была бы недовольна. Когда все враждуют, невозможно кому-нибудь сделать доброе дело, не обидев другого. Пусть уж так, без свечи, с меня хватит и этого. И ему хватит, а мне тем более…»
Он отрядил с десяток родичей, чтобы отнесли Байо. По пути люди разговаривали и не слышали тиканья часов. Отыскали хорошее место для могилы и две надгробные плиты — все честь честью сделали. Взяли в селе лопаты и кирки очистить снег и выкопать могилу. Когда все было готово и люди в напряженной тишине подошли к покойнику, чтобы взять его и опустить в землю, один из парней отпрянул в сторону и закричал:
— У него сердце бьется!..
Все вздрогнули, побледнели от страха и едва решились подойти ближе и посмотреть. Когда они вытащили из кармана Байо часы, почерневшие от запекшейся крови, и открыли золотые крышки, то им показалось, будто из черной коробки на них смотрит таинственное око времени, которое каждому, слышно или неслышно, отсчитывает его минуты. Они стояли так какое-то время и не знали, что делать с часами: оставить их у себя — это все равно что воровство; закопать вместе с убитым — грех, все равно что живую душу в землю закапывать.
Читать дальше