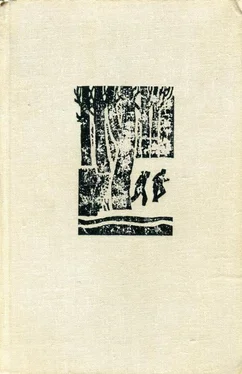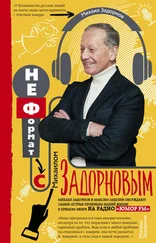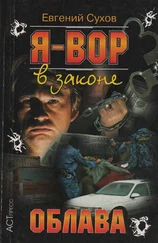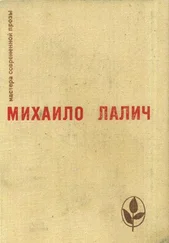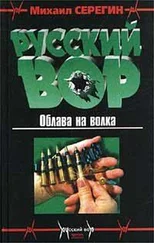— Встретились мы, наконец, несчастный мой сродничек, где не думалось ни тебе, ни мне! Поддался ты обману, причинял зло народу и государству, зло настигло и тебя. Но сейчас, мертвый, ты уже не коммунист. Сошло это с тебя, как краска сходит. Сейчас ты мертв, земля и в землю отыдеши, и мы тебе поклонимся. — Он обернулся к Чазиму и сказал: — У него осталась одна мать… Отдайте его мне, чтобы схоронить по нашему обычаю!
— Бери! — сказал Чазим. — Нам он не нужен.
— Нет, не дадим, — вскипел Ариф Блачанац. — Ничего из этого не выйдет.
— Почему не выйдет, зачем он тебе?
— Наши его убили, нам за него и расплачиваться! Пусть он лежит здесь, не хотим, чтоб ты его тащил туда и хвалился перед итальянцами, будто его убили твои.
— Убивал я сотни таких, — сказал Гиздич, — похвальба мне не к лицу.
— А то возьмете и там, внизу, его мертвого изрежете, — продолжал Блачанац. — Это у вас в заводе — хуже бешеных собак! Все зло, какое только знал мир, вы возродили и превзошли. Твои бешеные псы выколют мертвецу глаза, вырвут сердце и отрежут язык, а потом будут всем его показывать и рассказывать, будто это дело рук моих людей. Не позволю так делать, не хочу, чтобы его мать меня проклинала, потому и не дам!
— Ищешь ссоры, — прорычал Гиздич и топнул ногой. — Так, что ли?
— Так! Она всегда меня настигала, когда я от нее убегал, сейчас бежать не стану.
— Клянусь богом, я никому язык не отрезал, но тебе отрежу первому!
— Брюхо у тебя толстое, прогрызут его до того черви.
С одной стороны ощетинились провожатые Гиздича, с другой — родичи Блачанаца. Того и гляди, грянет выстрел, все точно обезумели, только Чазим Чорович ничего не замечает, смотрит в ширококостное лицо и открытые глаза Байо Баничича, а видит совсем другое. Перед глазами снова возникает стройный парень — тот, кто первый упал, сраженный пулей. Упал лицом в снег, казалось, совсем изрешеченный, все думали, убит, а он вдруг кинулся на них, как сто чертей. Через одного живого переступил, другого убил, ранил третьего и точно сквозь землю провалился. Искали его повсюду, весь лес заследили — нигде ничего.
— Пошли от беды подальше! — сказали горцы из Торова. — Шайтан его унес. — И не захотели больше искать.
«Если его унесли шайтаны, — думал Чазим, — то почему они не унесли его винтовку? Почему оставили, как они могли ее позабыть? Но если шайтанов нет, если не они ему помогали, каким образом он исчез и где сейчас?..»
VI
Видо Паромщик, раненный, и сам давно уже не знает, где он. И если бы даже он знал хорошо все эти мусульманские горы, куда никогда не заходил, сейчас не узнал бы их. Они раскачивались, плыли, пузырились, точно груды негашеной извести, когда в нее пустишь воду. Порой они уходят вниз, порой вздымаются, беспрестанно меняют облик и размеры. Когда Видо идет, они то уходят из-под ног, то внезапно поднимут его и бросят в кусты на сухую листву. Пока горы не пустились в эту безумную пляску, за ним, как ему помнится, бежали и кричали запыхавшиеся люди. Он думал, что это гимназисты Груячичи с новыми пращами, которые они получили от учителя, повели на него облаву, чтобы ему за все отомстить. Видо выстрелил дважды из пистолета, а они, обогнав его, побежали вперед. Они что-то кричали, от спешки у них развязывались пояса и тащились за ними, как хвосты. Это они бегут за Байо, подумал Видо и заторопился к нему на помощь. Может быть, он и догнал бы их, но вдруг перед ним встала гора и скрыла их. Он диву давался, до чего они быстры, но все же надеялся, что следы все-таки помогут ему их нагнать, потом следы пропали, и Видо позабыл, что кого-то ищет. Слепящий блеск, боль и холод то порознь, то разом наваливаются на него, как некогда Груячичи с камнями в ивняках.
Привели жандармов и попрятали в кустах — их не видно, слышно лишь, как они задирают сестру: почему у нее голые локти, почему у нее юбка не короче, почему не покажет все, что у нее есть, а не только колени… Издеваются над сестрой, а он не может ее защитить: окружили его итальянцы посреди Плевля, в здании гимназии, а какой-то поп кричит: «Погибли коммунисты, и следа от них не осталось!» Поп кричит, а итальянцы скрипят: «Что делать паромщику в гимназии? Пришел грызть гранит науки, подавишься!» — и бьют из гранатомета в окно. Попадают в верхний угол, красные куски кирпича и мяса летят вниз сквозь едкую пыль штукатурки. Деваться некуда, облава сомкнулась со всех сторон — больше их уже не обманешь. Тащат мертвых, мещанская сволочь мотыгами добивает раненых, и все кричат. До ночи осталось шесть часов, но это как шесть лет войны — конца ее не дождешься. Установили пулемет на столе, стол пододвинули к окну, и Пулё дал длинную пулеметную очередь — разогнал гранатометчиков по огородам, заткнул им глотки. Так им и надо — пусть им тоже будет несладко! Кто-то притащил ночь, точно мокрое рядно, и покрыл им город, наполненный стонами. Вышли на улицу, спотыкаясь о трупы, — нет больше белого блеска, только холодно. Надо куда-то идти, лучше всего к Лиму, а потом вдоль Лима до парома. Он отвяжет паром и заплывет в глухую заводь, заросшую ивняком, куда ни цыгане, ни контрабандисты не заглядывали и о которой, может, и не знают. Он останется там, пока не затянутся раны, а потом пусть кто-нибудь попытается тронуть сестру! Не так уж тут далеко. Даже близко: слышно, как шумит Лим. Где-то тут, внизу, только не видать его…
Читать дальше