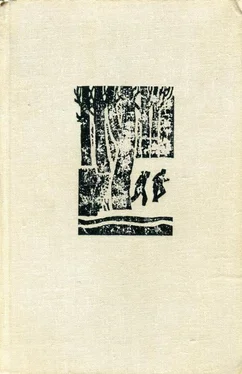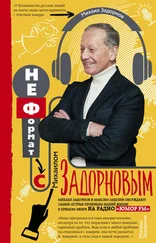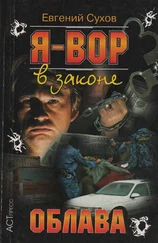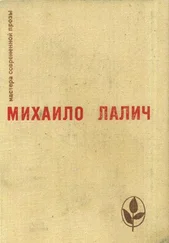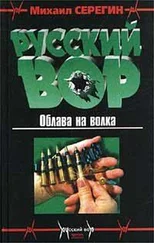Михаило Лалич - Облава
Здесь есть возможность читать онлайн «Михаило Лалич - Облава» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1969, Издательство: Художественная литература, Жанр: prose_military, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Облава
- Автор:
- Издательство:Художественная литература
- Жанр:
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Облава: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Облава»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Облава — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Облава», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— Просмотрите свои карманы, — сказал он.
— Поскорее. — Слобо ухмыльнулся. — У Ивана украли деньги.
Видрич с укором посмотрел на него и сказал:
— Шутки тут неуместны. Нельзя оставлять письма или вещи, за которые бы нас потом проклинали.
— Не знаю, что с вами сегодня! — сказал Слобо. — Точно всех хороните.
Сжигать пришлось немного, все быстро кончилось. Когда развеялся дым и был растоптан пепел, им показалось, что они обманули и в какой-то мере победили время. Оно осталось по-прежнему таким же, оно может по-прежнему мчаться, разрушать горы, строить города и превращать их в руины, но они выбились на стрежень, приоткрыли тайны его бытия — и оно теперь им служит, несет и ширит, кормит и не даст ни упокоиться, ни успокоиться. Заключив таким образом втихомолку перемирие со временем, они сразу перестали спешить. Вуле Маркетич не требует быстро вынести решение, а Иван Видрич не мучается, что не может этого сделать. Все стали равнодушными и сговорчивыми, время и без того, раньше или позже, перенесет их с берега на берег, как и все прочее. Спокойные перед великим равенством, которое примет их, как сон после купанья, они отдыхают после бега, шума, мелких дел и ничтожных тревог. И слушают, как течет вода, как меняются ее тоны, когда она протекает под снегом через хрустальные гроты, ледяные вазы и кувшины. Время рвет песню воды и борется с тишиной — вода поет, ее дело петь, а их дело ждать.
С другой стороны Орвана, на его южном склоне, на полянке у Поман-воды, время разрывают волны бешенства, криков, рева и рыка Ристо-Рило-Рико Гиздича. Он не сходит с лошади, налился кровью, как вампир, и вздулся, как утопленник. Начальник уездной милиции напоминает перегретый, клокочущий и шипящий котел, а не человеческое существо. Поворачивая лошадь то вправо, то влево, он кружится по поляне, точно молотит хлеб, и его возгласы переходят от хрипа к визгу и обратно. Он не может молчать, стоит только на минутку умолкнуть, как ему тотчас кажется, что он попал в тесную вонючую переднюю, где невозможно передохнуть, где его вынуждают ждать, хотя у него нет времени, и где сердитые начальники и их крашеные секретарши умышленно не желают слышать о том, что он спешит.
Ладно бы уж были начальники, думает он, а то какие-то вшивые капабанды Верхнего Рабана, третьесортная сволочь, которая вечно чешется, воняет, разлагается от коросты и отличается от скотины лишь тем, что не имеет хвоста. Дважды он посылал за ними гонцов, и те самые люди, которые когда-то дрожали при одном упоминании его имени и боялись его больше бога и черта, отказались прийти на совет ни в село Тамник, ни сюда, на эту поляну, ни в любое третье место между Тамником и Рогоджей. Он послал уже и третью записку, но те не спешат с ответом — и по всему получается, будто он зависит от них, просит, как нищий. Гонцы не возвращаются, время идет, а коммунисты ускользают. Если так пойдет и дальше, они ускользнут совсем, и Рико Гиздич останется с пустыми руками — такого с ним еще никогда не бывало. При мысли об этом он запускал пальцы в свою седоватую курчавую бороду и дергал ее изо всей силы, точно она была во всем виновата. Приступы ярости на него нападали так часто, что он непременно остался бы без бороды, не будь рядом Алексы Брадарича и мягких как воск командиров, которые терпеливо сносили его ругань и сопровождаемые завываниями оскорбления.
Наконец явился и Филипп Бекич. Отсалютовав Гиздичу по уставу, он принялся рассказывать, как шло преследование, сколько раненых и убитых, как была обнаружена землянка и задержана подозрительная женщина.
Гиздич, сидя на коне, насмешливо смотрел на него сверху, подняв бровь и прищурив глаза, всем своим видом показывая, что он ничему не верит. И не только ему, но и Юзбашичу, и всем прочим болтунам-националистам, четникам и мошенникам, которые получают лиры, жрут макароны, толстеют от пашташуты [48] Пашташута — итальянское блюдо из макарон и мяса.
и мечтают о победе англичан. Они долго колебались, колеблются и поныне, в глубине души раскаиваются, что связались с итальянцами, и готовятся в удобную минуту перелететь, как вороны, с места на место, с пустого корыта на полное. Потому он им и не верит.
При первой же возможности они перелетят, — знает он их как облупленных! — а вину за содеянное тут же свалят на него, Ристо Гиздича, и на кого-нибудь из покойников. Дело его дрянь: этот сволочной народ злопамятен, ему тотчас припомнят прошлую войну — как Ристо Гиздич ходил со швабами и устраивал со швабами облавы, хватал пособников, изымал продукты и зерно под видом реквизиции и толстел, когда кругом все дохли с голоду. Все припомнят, и никто не подумает, как он до этого дошел. Что иного выхода тогда не было, надо было как-то поладить с сильным, требовался посредник между народом и властью, а никто не хотел им стать. Старые черногорские вожаки, хитрые, как лисы, взвалили это на него, а он — тогда молодой, глупый, никто и ничто, с малым образованием и большим аппетитом — согласился, с того и пошло. Кому бог дал здоровье, тому и вода сладка, но еще слаще власть да сало. Работая больше других, приходилось и есть больше других, и находить способы и в голодные годы добывать эти излишки. Вот Рико и нажил себе брюхо, а потом уж оно толкало его дальше. Толкало и после того, как швабы ушли, и отворяло перед ним все господские двери и приемные, как самая лучшая рекомендация и блестящий диплом. Люди, стоящие у власти, тотчас по брюху признавали в нем своего, сбившегося с пути родственника, прирожденного полицейского, который просто создан для того, чтобы преследовать федералистов, мусульман, албанских голодранцев и коммунистов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Облава»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Облава» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Облава» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.