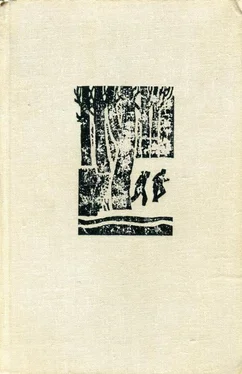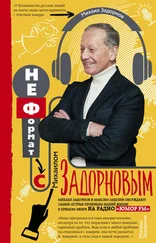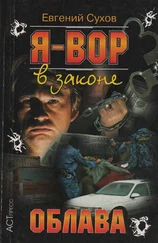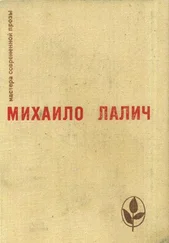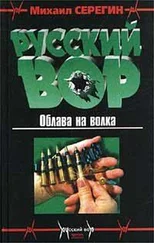— Жалеешь, Раич? — спросил он Боснича.
— О чем?
— Что не ушел, когда повалил снег? Хоть бы ты выбрался.
— Один я не собирался выбираться. Нехорошо от своих отбиваться.
— Если бы мы тебя послушали, то не были бы сейчас здесь.
Он пожал плечами:
— Мне лучше, что я здесь.
В долине под ними, в стороне Лима и около шоссе, послышалась разрозненная, затяжная перестрелка и едва уловимые, точно призраки, крики. Они прислушивались несколько мгновений, потом Шако сказал:
— Это стреляют по Васо Качаку. Опоздали мы вниз.
— А перестрелка за Повией что означала? — спросил Зачанин.
— Не знаю. Может, они разбились на две группы.
— Мусульман, — сказал Слобо, — если вы думаете, что они помеха, мы с Райо Босничем разгоним за десять минут. Хотите? — И пошел.
— Погоди, — остановил его Видрич. — Надо все обмозговать.
Про себя он подумал: «Плохо и то и другое. Если спустишься вниз, попадешь в котел, в клещи между двумя облавами. А если мы даже пробьемся к Лиму, то как его перейти? Половина погибнет при переправе, остальных перебьют на той стороне. На Рачве, пожалуй, было бы лучше, если бы не эти проклятые глетчеры и это чертово солнце, которое светит так, что на полвыстрела видно иголку и не промахнешься, взяв ее на прицел…»
Тут его мысли оборвались, и он погрузился в серую кашицу дремы. Долит его какое-то мертвящее головокружение и отпустить не хочет и осилить не может. Он противится, а оно не отпускает. Наконец, словно перебрав все ключи в поисках выхода, он махнул рукой и предался воспоминаниям. Всплывали какие-то лишенные смысла обрывки и клочья воспоминаний, которые словно ветром нанесло: вечерняя заря в казарме, тополя у реки, болота, лягушки, пробор на голове военного прокурора, туман при лунном свете, бомбовозы «Савойя» над Дубом, муэдзин на городской мечети, толпа народа у монастыря и крест с надписью:
«Да ведомо будет, когда погибла братия в Столпах Святого Георгия, и сожжены дома, и бежали монахи от турок, умерщвлены хашские вожаки Радован Злоглавац, священник Вукашин и Милован из Грабежа и Ладо из Луга 1825 года марта 12…»
«Джюлбег их повесил, — заметил Видрич про себя, — во славу Стамбула, а нас умертвит Юзбашич во славу Рима, Берлина, Лондона и всей буржуазной культуры Запада. Хашские вожаки были на целый месяц ближе к весне, чем мы нынче. Черногория была свободной, Сербия наполовину свободной и гайдуки, бунтовщики густой сетью покрыли землю, — у них было больше шансов на спасение, чем у нас, и все-таки их поймали. Нам, кажется, предстоит разделить их судьбу — Ладо заменит Ладо из Луга, я — Радована Злоглаваца, а Зачанин — Милована из Грабежа, каждому нашлась замена, даже с избытком…» Он вздрогнул, пришел в себя и спросил Шако:
— Как ты думаешь?
— К Лиму мне идти неохота. Я уже дважды в эту зиму переходил его, могу и в третий раз, если скажешь, но я лично против.
— И я тоже, — сказал Раич Боснич. — Рачва ближе.
— Все против Лима, — заметил Вуле, — я тоже.
Зачанин откашлялся:
— Надо тебе, Иван, сбрить бороду. Пора.
— Эй, Слобо, дай-ка мне нож, — сказал Видрич.
Покуда он мочил бороду снегом, головная боль утихла, мысли прояснились. «Вот, — подумал он, — и готово решение. Пришло время стать попом расстригой и подбить итог. Что ж, все шло по плану, ничего непредвиденного и особенного не произошло. Мы задержали Юзбашича на две-три недели, не дали ему двинуться в Боснию сейчас, как он задумал, расстроили его планы. Большего сделать мы не могли. Если и другие сделали, что смогли, этого достаточно; тот же, кто не сделал и сохранил голову на плечах, сделает это в следующий раз. Мы знали и раньше, что придется расплачиваться и что нам будет горько в тот час, и все-таки отдали свои души и жизни за тот незначительный успех, о котором наши в Боснии даже не подозревают и, может, никогда не узнают. Вот так оно и идет в лотерее войны: иной раз маленький вклад приносит большой выигрыш, а иной раз большой ничего не приносит. Пришел час расплаты. Подступил вплотную, потому и кажется мне таким большим и страшным. А когда быльем порастет, уменьшится и совсем позабудется. Может, останется в песне, или в устных сказаниях, или в короткой надписи:
«Да ведомо будет, когда погибла братия коммунистов в долине Караталих 1943, февраля 16».
И останется что-то неосязаемое и безымянное в жизни живых и в ее дальнейшем движении».
Мысль о живых заставила его вздрогнуть и достать из внутреннего кармана пачку исписанных бумаг. Он обрадовался, что вспомнил об этом, пока еще есть время спокойно и без остатка все сжечь. За маленьким дымком, как за дымовой завесой, скроется будущий батальон, его командный состав и его неведомые пути.
Читать дальше