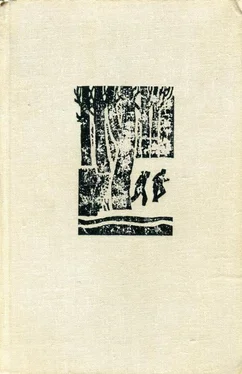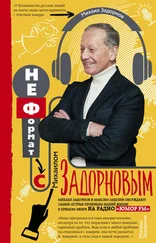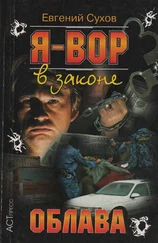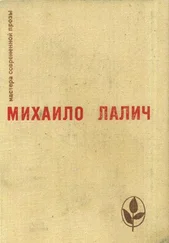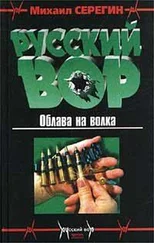Она побледнела, как хмурый рассвет, в голову закралось сомнение, что это была другая ночь. Было две ночи, как две черные обложки, а между ними столько нарисовано дней, людей и судеб, сколько, казалось, и не может там поместиться, как в ночном кошмаре. Были в этой книге и Василь, до того как он выздоровел и ушел, и молчаливый Якша, прежде чем он погиб, и село Меджа с водопадами, кукурузными полями, запыленными котлами, и несчастный дом на Лазе, и бедная Ива с ребенком в большой комнате, и пьяные четники со своей песней:
Партизанка, ты зачем скрывала,
Что с пархатым переспала…
И тут на мгновенье появляется, чтобы заставить их замолчать, Лука Тайович, старый, нахмуренный, и сразу превращается в озабоченного бородатого человека с винтовкой и в желтых итальянских башмаках. Человек держит ее за руку, ведет куда-то через реку, защищает от собравшихся под деревьями, озлобленных на нее людей.
— Я ее знаю, — говорит он, — вы не за ту ее принимаете, она пошла за хлебом и заблудилась. В таком тумане не мудрено заблудиться.
От его голоса туман начинает рассеиваться. Можно различить следы на снегу, слышен лай, все вокруг становится на свое место. Может быть, все бы и успокоилось, но внезапный грохот потряс землю, и опять все полетело вверх тормашками.
— Что это? — спрашивает она, придя в себя от страха.
— Удача. — Старуха усмехнулась. — Опять встретились и сшиблись.
— Как опять? Разве они и раньше дрались?
— Все утро. Убей бог того, кто дал им столько патронов!
— А как Ладо, жив?
— Не знаю я, кто такой Ладо. Неизвестно, кто жив, кто мертв. А тебе своего горя мало? Лучше о себе подумай, чем о других печалиться.
Неда закрывала ухо ладонью, но от грохота не так просто избавиться. Стрельбу все равно слышно — отчетливо с горы и глухо из-за горы. Старуха натянула ей на голову одеяло, но и это не помогло. Гранатометы утихли, но тем слышней тарахтели пулеметы, и, сталкиваясь, гремели винтовочные залпы один за другим, точно лес черных копий.
Неда попыталась снова погрузиться в дремотно-обморочное состояние. На несколько мгновений ей это удалось, но вскоре звуки выстрелов проникли и туда. Она слышала их не столько ушами, сколько кожей, всем своим существом; ее пронизывало дрожью еще до того, как выстрелы доносились до слуха. Устав от дрожи, которая, казалось, ломала ребра, выворачивала суставы, дробила кости и кромсала внутренности, она собрала все силы, сбросила с головы одеяло и оглянулась по сторонам. «Все по-старому, — подумала она, — только день потускнел. Это он от дыма выстрелов потускнел и помрачнел. До чего отвратительны люди! Все могут зачадить, даже божий день, и все им мало. Может, это болезнь такая у них — люди они, и потому не могут иначе? Однако раз они бьются, значит, должны быть две стороны, значит, и та, другая, еще жива, еще не погибла. Не погибла, не погибла, — все время отвечает, только реже. Может, она не погибнет и Ладо тоже не погибнет, и тогда мой сын не будет байстрюком и ребята не будут над ним смеяться, когда он выйдет погреться на солнце и подивиться миру: маленький такой кудлашка с пухлыми ножками и с двумя вихрами над лбом, как у Ладо…»
— Ладо мой муж, хозяин, — сказала она старухе в смутной надежде ее задобрить. — Мы невенчанные, но это не его вина. Он хотел бы, но никак нельзя — внизу его подкарауливают, хотят убить. Потому я так — одна.
— Бедняжка ты моя, лучше сейчас не думай об этом.
— Лучше бы им не воевать, пусть всяк о своих домашних делах помышляет. Разве их мало — снег, скотина, во всем недостача и всякое такое, еще и дети. И без того едва концы с концами сводишь, а они не дают — почему, не знаю. Есть у тебя сын?
— Есть, вон его слыхать. Не может мой сын не драться с коммунистами, сидит в нем какой-то бес.
— Это его портрет, вон с усами?
— Его. Снилось мне — упал портрет и разлетелся вдребезги. Три дня назад снилось, а и сейчас дрожу.
— Это от тревоги. Нынче каждая мать дрожит от страха. Может, сам дьявол запряг всех в свою таратайку и гонит куда хочет.
— Злоба, а не дьявол: с жиру бесится человек. Мой сын не ради хлеба для ребят, как эти беженцы, воюет. Есть у нас и земля, и хлеб, и к хлебу. От отца ему много осталось, полсела мог бы прокормить, но ему слава нужна, а кто встал на этот путь, ему всего мало.
III
А ее сын, Филипп Бекич, усталый и возмущенный тем, что Гиздич взял дело в свои руки, стоял на Белой, на северном склоне Рогоджи. По узкой долине к Кобилю отступали коммунисты, визжали итальянцы на Повии, а мусульмане с криками «алла-а-а!» бежали с Седлараца и Кобиля к Рачве и к своим селам. Его брало зло на итальянцев — стрелять не стреляют, пришли будто в театр поглазеть. Злился он и на мусульман: долго они будут рассказывать своим бабам, какие мастаки сербы друг другу шеи сворачивать. Злился и на Гавро Бекича — опять улизнул, нет его среди партизан, что идут прямо в лапы к Гиздичу. «С меня хватит, — подумал он, — сыт по горло! Будь я на лошади, как Гиздич (а кто запретил бы мне ехать на своей лошади — так нет, надо было поддаться этой дурацкой заразе, быть в равном положении с теми, кто привык ездить только на краденых), сейчас ускакал бы, чтобы глаза мои не видели этого срама. Бросили два батальона на десяток людей и не справились. Позвали итальянских ящериц потешаться над нами, собрали на спектакль и чулафов, да еще куражимся вместо того, чтобы сквозь землю от стыда провалиться».
Читать дальше