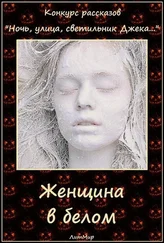Начиналось то трудное и ответственное время весны, ранней в этом году, когда идущее так блестяще наступление наших войск должно было выдержать серьезное испытание. Уже видно было, что немцам наша распутица была не по силам, а как справимся мы?
Полковник Карташов видел все вокруг себя с ясностью человека, привыкшего каждое явление принимать как новое, данное ему условие все той же задачи, к решению которой он идет правильно, и ответ ее уже написан в конце. Новое трудное условие распутицы не могло изменить это решение, оно могло лишь потребовать новых сил, и силы надо было найти.
Он посмотрел на бойца в валенках, на машины, залепленные грязью. В это время шум голосов донесся с дороги: головной «студебеккер» двинулся с места и пошел… пошел… Бойцы, как бы прилепленные к нему и сначала двигавшиеся вместе с ним, начали отлепляться, отставать, а потом, размахивая руками и скользя в грязи дороги, побежали догонять машину. За первой тронулся постепенно весь ряд стоявших машин.
«Так и будет, — подумал полковник Карташов. — Будет распутица и трудности, и будут выбывать люди, но то главное в нас, что выработалось нашими усилиями, и укрепилось, и закалено, так и пойдет, и пойдет, и дойдет общей силой. Это верно сказал Егор, что «как будто надо было, чтоб увезли, и все-таки я тут остался бы». Вот оно идет, движется его дело, его работа. Хотя он и уедет, дело, пущенное нами вместе с ним, идет и идет. Все мы в этом большом и трудном деле остаемся вместе, и дальше бы нам так…»
Полковник увидел свой «виллис» на той стороне площади и пошел к нему, шагая через ручейки. Ему радостно было думать, что Макаров понимает и не винит его.
● Москва
1944 г.
Он сидел в большой четырехугольной палатке перед столиком с перевязочным материалом и инструментами, без рубашки, со сдвинутыми ниже пояса штанами и, большой, широкий, застенчиво смотрел на нас. Могучая его грудь, перевязанная ситцевой полосатой тряпицей, напоминала грудь Лаокоона; живот был словно разделен на квадраты: так правильно и красиво располагались на нем мышцы. На шее под широкой русой бородой запеклась кровь. Глаза были серые, умные, внимательные.
— Пустяковина… маленько чмокнуло… — говорил он протяжным, густым голосом, пока сестра, попробовав развязать розовую его тряпку и не сумев справиться с туго затянутым узлом, разрезала ее ножницами.
Она хотела было снять ее, как увидела яркую и свежую струйку крови, потянувшуюся по белой здоровой его коже, и прижала повязку рукой.
— Не бойся, — сказал он, — тяни. Я ее, рану-то, заткнул.
Подошел доктор, сказал хирургической сестре, что ему могут понадобиться большие салфеточки, и, не трогая чисто вымытыми, стерильными руками грязной тряпицы, показал сестре, что можно ее снять. Сестра отняла повязку… Струйка крови медленно потекла из раны, заткнутой куском ситца, как пробкой.
— Легкое пробито, — сказал доктор. Маленький худощавый и молодой, он перед этим цветущим телом вдруг показался нам не очень молодым. — Трудно дышать было, когда ранило?
— Трудно, — согласился раненый, — даже просто захватило дух.
— А говорите — пустяковина.
— А то нет? Вот у меня что было, и то обошлось.
Он сдвинул еще пониже на правом боку серые свои холстинные штаны и показал огромный рубец, похожий на красноватый выпуклый серп.
— Что же это? — спросил врач.
— Бургомистерство принимал, — усмехнулся раненый. — Еще в Смоленской области бургомистером ставили…
— И что же?
— Дак не подошло мне дело-то! — улыбнулся он.
И все увидели, что он человек веселый.
— Так вы смоленский? — спросила сестра.
— Смоленский.
Но в это время доктор обратил внимание на кровь, запекшуюся на шее, тронул пинцетом и увидел глубокую борозду, проведенную чиркнувшим осколком. Он занялся обработкой раны, и разговор прекратился, только слышалось покряхтывание раненого, когда йод пробирался и щипал место ранения.
— Живое мясо йода боится, — сказал он.
Ему пришлось сделать операцию: вынуть осколок и подтянуть края легкого, сократившегося под давлением вошедшего в рану воздуха. После операции его отнесли в нашу избу, предназначенную для раненых, не требующих немедленной эвакуации. На листке с его историей болезни доктор мелко написал, что им произведена операция «открытого пневмоторакса» левого легкого и перевязка поверхностного ранения шеи над правой ключицей. Наверху, где пишутся фамилия и имя, стояло: Коробков Степан Игнатьевич, 58 лет, русский, уроженец Смоленской области, колхозник, беспартийный.
Читать дальше