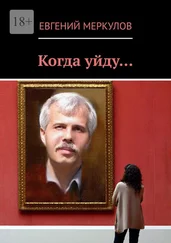Но война для корпуса складывалась тяжело: корпус, хотя на своем участке и бил немцев, но остановить их не мог; нес страшные потери, его боевые порядки становились все жиже, и Пономарев не мог удержаться, чтобы не бросить свой КВ в атаку или не прикрыть вместе с другими отход мотопехоты, которую, сначала прижав минами к земле, немцы расстреливали из пулеметов или давили гусеницами. Но в атаках и при отходе Пономарев видел, что возле его КВ вечно трутся другие машины. Они защищали его борта. Несколько машин получили снаряды, предназначенные ему, и сгорели. Две из них — с экипажами.
— Готово! Товарищ комкор, готово! — крикнул башнер. Командир, извиняясь и, как бы оправдывая резкость и раздражение, возбужденно заговорил:
— Полгода как гарнизон из этого УРа ушел к Сану. Хотя бы оставили немного людей, чтобы следить. — Командир кивнул в сторону штатского с берданкой. — Вот этот инвалид и был гарнизон. Он сдает, я принимаю. — В голосе командира звучала злая ирония. — Между многими точками связь оборвана, пойди найди обрывы под землей. Пулсметные столики поржавели. Почти везде — вода, а насосы не работают. Вентиляторы тоже. Вы не слышали, кто там за нами? Не вы?
— Нет. А что, за вами никто не стоит? — спросил Пономарев.
— Только стрелковые части. И немного артиллерии. Танков пока не видел. — Командир возбужденно пожал ему руку. — Если не подойдут, придется… придется держать людьми.
До Житомира корпус не дошел, уткнувшись в танки Клейста под Бердичевом, После боев там от корпуса не осталось и половины. Хорошо, что здесь росло много лесов и лесков, и днем в них можно было спрятаться. Но стоило высунуться из-под деревьев хоть короткой колонной, как их сразу же обнаруживали пикировщики. Зенитная оборона корпуса была подавлена, и юнкерсам фрицев было раздолье. На все запросы прикрыть его голову из штаба фронта отвечали, что выделить авиацию не могут. Пономарев только у Туликова, уже в Святошино, узнал, что остатки фронтовой авиации парализованы и что перебазируемые из тыла авиаполки тоже несут потери. И не прикрытые с воздуха дивизии Пономарева, развернувшись к атаке, еще на исходном рубеже теряли машины. Единственным спасением было сближаться с немцами так, чтобы юнкерсы не могли бомбить, опасаясь попасть в своих. Но иногда немцы, не дав даже времени удрать остаткам своих, сыпали бомбы и по ним.
С неубирающимися шасси юнкерсы были похожи на стаи хищных птиц. Они так и летали — низкими стаями, особенно в тылах корпуса, сжигая цистерны с горючкой, грузовики со снарядами, рем летучки и все остальное, без чего корпус действовать не мог. Даже ночью, развесив над дорогами зажигательные бомбы, пикировщики не слезали с дорог.
Наблюдая за людьми, сопоставляя свои чувства с чувствами других, Пономарев убедился, что за первую неделю войны у каждого родились к нем, сменяя друг друга, три отношения. У каждого — означало для Пономарева всех, кроме явных трусов и дезертиров. Когда пришлось под бомбежкам отступать, кое у кого ужас за собственную шкуру оказался сильнее всего, что воспитывалось годами, всей жизнью. Трусость порой показывали даже старшие. Когда в очень тяжелом бою, еще между Львовом и Тернополем, был убит командир дивизии, и погибла часть его штаба, и было потеряно управление, командир полка без приказа снял с рубежа полк и, погрузив его на машины, покатил от немцев к штабу армии. Пономарев перехватил полк уже километрах в двадцати от дивизии. Ночью, переходя от машины к машине, он выталкивал и даже вытаскивал за ремень сонных командиров батальонов и рот, ругаясь, махал перед ними пистолетом и заставлял разгружаться, рыть окопы и занимать оборону. Тогда-то впервые ему пришлось услышать отчаянные крики растерявшихся людей:
— Отступать к старой границе!
— Там укрепления! Доты!
— Где танки? Где самолеты?
Разобрать, кто кричал, в темноте было невозможно, да и не до этого было.
Но в этих криках, и в паническом бегстве, и в мешканье, которое он уже замечал, когда надо было кому-то идти на немца, выражались и отчаяние от того, что побед нет, и страх перед противником, который вдруг оказался сильнее тебя.
В отбитой деревеньке, у костела, ему докладывал командир лучшей его танковой дивизии, человек, в мужестве которого убедились еще в Финляндии.
— Полтора десятка танков за сотню домов!
Это было на третий день войны. На окраине поселка еще постреливали, оттуда вели пленных, и красноармейцы, толпясь по сторонам, разглядывали немцев. Трофеи, газеты, всякие там баночки-скляночки они рассматривали с любопытством. Через поперечную улицу Пономареву и комдиву была видна следующая деревенька, там тоже был костел. Мимо них, вминая гусеницами траву на заросшей дороге, где до войны-то и автомобили ездили редко, проходила рота танков, которая в этот день была во втором эшелоне.
Читать дальше




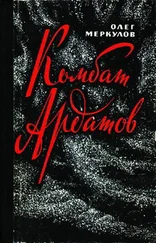
![Олег Чечин - Ради тебя, Ленинград! [Из летописи «Дороги жизни»]](/books/417792/oleg-chechin-radi-tebya-leningrad-iz-letopisi-dor-thumb.webp)