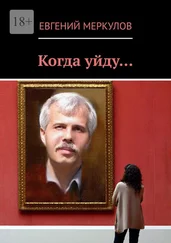Весь день Наташа пролежала и просидела на опушке, не замечая без часов времени. После каменного хаоса Москвы, где взгляд утыкался в дома или низко повисшую копоть, после серых стен, асфальта, пыльных деревьев, после сутолоки улиц, глаза ее отдыхали. Все здесь было чистым и радостным — бездонное небо, далекий горизонт, настоящая зелень. Наташа смотрела, смотрела, смотрела и не могла насмотреться на многоцветные поля, на деревеньки, расставленные, как игрушечные, на концах дорог, на мягко кланяющиеся под ветром хлеба.
«Но почему я плачу? — думала она. — Ведь ничего с ним не случилось? Зачем же отчаиваться, зачем? Я ничего не знаю — ни хорошего, ни плохого. Зачем же так? У меня перегорит молоко. — Она улыбнулась и вытерла слезы. — Какая я глупая! Думаю о молоке, хотя ребенка еще нет. Убиваться нельзя. Так я вся изведусь. Еще родится какой-нибудь больной. У кого муж не уехал? Не всех же убивают, тогда бы не было госпиталей. А некоторых даже не ранят. Может, Игорь поймает еще какого-нибудь важного немца, и его снова пустят в отпуск. К чему же так реветь? Вот еще отдохну, и надо взять себя в руки. Надо написать его маме. И институт я так запустила, так запустила! Нет, так нельзя. Пора быть старше. До каких пор я буду девчонкой?»
Выплакавшись и тревожно поспав после слез, Наташа ушла глубже в лес. Ей захотелось есть, и она стала собирать землянику. Земляники попадалось не очень много, и Наташа, наклонившись, шла от опушки все дальше, раздвигая руками резные листья, над которыми, как сережки, висели ягоды. Но скоро в лесу стало сумрачно, и Наташа увидела, что заблудилась, и испугалась. В одной стороне было как будто светлее, она побежала туда, но вышла не на опушку, а на поляну. Она присела, чтобы казаться меньше, однако от этого ей стало еще страшнее: она слышала всякие шорохи. Ей чудились волки, медведи, змеи, лешие и другие ужасы.
«Меня могут никогда не найти. И никто не узнает…» — подумала она.
Наташа как следует надрожалась, когда совсем недалеко ударил колокол:
— Бум! Бум! Бум!
С трепещущим сердцем Наташа встала и замерла, ожидая, не повторятся ли удары. Удары повторились. Они представлялись Наташе звенящими золотыми шарами, которые выпускал колокол. Шары летели над землей, чтобы заблудившиеся люди могли услышать их и, следя за ними, выйти на дорогу… Шары, улетая от колокола, протягивали от него нитку, по этой нитке и надо было идти.
В деревне из-за калитки белого дома Наташу окликнула строгая женщина. Темный платок, повязанный по-старушечьи, делал ее продолговатое лицо совсем узким. Прямые черные брови, удлиненные синие глаза и поджатые в линию губы перечеркивали лицо.
— Чего потеряла, девка?
Наташа остановилась.
Женщина рассматривала ее.
— Я? Ничего.
— Это ты цельный день ходила около леса?
— Я, — сказала Наташа. — Вы… вы не продадите мне молока?
Мимо них, к церкви, с которой колокол — Бум! Бум! Бум! — все посылал свои шары, семенили, крестясь на ходу, старухи и прошел на костылях безногий солдат. В такт костылям на его гимнастерке позвякивали медали.
— Заходи, — неожиданно согласилась женщина и открыла калитку. — Вон лавка. Сядь. А коли хошь, умойся.
Дочь этой женщины, красивая девушка лет семнадцати, совсем не похожая на мать — девушка была русоволосой, синеглазой, смешливой, с ярким подвижным ртом, — принесла ей льняное полотенце. Она немного посидела, следя, как в сарае, разгороженном деревянной решеткой, тянулся к корове теленок, как воробьи воровали у куриц какие-то крошки, как с облака на облако передвигается желтый солнечный свет. Потом девушка позвала ее в дом.
В доме за незастеленным, отскребенным до белизны столом у стены сидели три девочки. Младшая из них тоже была похожа на отца, фотокарточка которого висела в углу, сбоку от нижней иконы. На фотографии усатый солдат в каске браво опирался на колесо маленькой пушки.
В центре стола стояла деревянная миска с простоквашей, солонка с крупной синеватой солью и измазанный сажей деревянный кружок. Напротив каждой девочки лежала ложка и ломоть хлеба. Еще три ложки и три ломтя хлеба лежали на этой стороне стола. Ломти хлеба были неровные. Самый большой ломоть был у самой маленькой девочки.
— Садись, коли не погребуешь, — сказала женщина и, достав ухватом из печи чугунок с картошкой, поставила его на кружок. Картошка была мелкой, с грецкий орех.
Наташа села к самому маленькому ломтю.
Девушка потянула ее за локоть.
— Это мамкино место.
Читать дальше




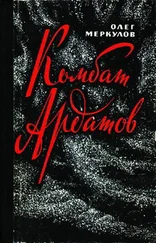
![Олег Чечин - Ради тебя, Ленинград! [Из летописи «Дороги жизни»]](/books/417792/oleg-chechin-radi-tebya-leningrad-iz-letopisi-dor-thumb.webp)