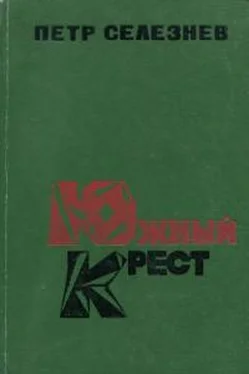А и вправду, о чем тогда говорили?
Шорин силится вспомнить и не может. О чем? Капитана Веригина ругали… Спорили, когда делили махорку. Вспоминали про дом, про семью, как жили, что ели-пили… А чтоб важные речи — нет. Но пишут складно, даже охота поверить, что так и было. Один раз даже погневался, что нигде нет его фамилии. Про младшего лейтенанта Грехова, точно, прописано. И про старшего лейтенанта Агаркова. И Анисимов… Только назвали его почему-то Анисиным. Но это ничего: кто знает — догадается. Людей вон сколько, как тут не спутаешь?
Повел широченными плечами, дунул в варежку, тронул себя за уши: силен морозец.
Шорин все такой же, только лицо исхудалое, словно прозрачным стало. В ногах противная слабость. Но это ничего, был бы харч покруче.
Поправил на плече вещмешок, заторопился. И чего это мечтает кое-кто о госпитале? Не дай, не доведи. Дух больничный — тяжелый, и каша манная — бездушная.
Стежку чуть присыпало, припорошило снегом. Видны чьи-то свежие следы. Ни выстрелов, ни людей. Зорюют, что ли, недоумевает Шорин. За Волгой только и речей, что о Сталинграде, а тут гля-ко что…
В животе у Шорина пусто — не ел со вчерашнего дня. Что выдали на дорогу, съел тем же часом. Он прибавляет шагу, крутит головой, глядит по сторонам: там и там поднимается из развалин тощий дымок. Вон боец. И еще один. За каменной стеной сошлись кучкой, закуривают, хлопают рукавицами, норовят достать до лопаток. Шорин подошел, поздоровался. Спросил:
— Триста тринадцатый полк — где?
Молодой солдат осклабился:
— А ты, дядя, кто такой будешь? У нас тут, знаешь, строго.
— Вижу, — Шорин вынул чистый носовой платок, утерся: знай наших. — Так я спрашиваю… Триста тринадцатый.
— Он самый.
— А первый батальон?
— Он и есть.
Люди новые, незнакомые, Шорин верил и не верил.
— А первая рота старшего лейтенанта Агаркова?
Кто-то бежал, размахивая руками, кричал:
— Шорин! Ах, мать твою так!.. Шорин!
Потом его вели по неглубокой траншее, какими-то подвальными переходами и наконец втолкнули в жилье. Горела фитильная коптилка, стояли кровати, на столе — буханка хлеба, котелки, кружки. На одной из кроватей кто-то спал, укрывшись с головой полушубком и положив ноги в огромных серых валенках на табуретку. Кто-то изумленно выговорил:
— Ребята, гля — Шорин!
Все разом поднялись, вскочили, и Шорин с удивлением увидел, как много тут людей. И все свои: Лихарев, Овчаренко, Анисимов, Долгов… Обступили, навалились, заговорили все разом, громко и бестолково. Анисимов всплескивал руками, зачем-то бегал от одной стены к другой, потончавшим от волнения голосом повторял:
— Шорин… Доподлинно Шорин.
Подбежал, растолкал всех, обнял. Глянул в лицо шурина с одной стороны, с другой и, убедившись, поверив окончательно, сказал:
— Ну да, Шорин, — и заспешил, заторопился всегдашней скороговоркой: — Чтой-то дюже скоро, а? Либо не долечили, а? Аль сбежал… — и заключил: — Доподлинно сбежал.
Шорина сообща раздели, усадили за стол, послали известить старшего лейтенанта Агаркова и политрука Коблова. Овчаренко сказал:
— Да уберите вы куски-то!
И сам огромной ручищей отодвинул на дальний конец стола котелки, кружки, куски хлеба…
Шорин забеспокоился:
— Хлеб-то зачем?.. Хлебушек оставьте, — и словно догадавшись, что опасается напрасно, как будто стараясь оправдаться, заговорил: — В тылу, братцы, меду мало. Это разговор один. На што в госпитале… Простыночки там, бинтики, сестрички молоденькие… Все: «Как вы себя чувствуете?» А как будешь чувствовать, если ты голодный? В завтрак — манная каша. Да была бы каша, а то тьфу: размажут по тарелке, а есть нечего. Кусочек маслица величиной с ноготь, два ломтя хлеба. Да были бы ломти!.. В обед щи. Плеснут полтарелки…
— Да уж знаем тебя!
— Нет, ребята, право слово. Никакие леки не помогут, ежели человека впроголодь содержать. Я сперва и так и сяк… Ну, прибавили раз, другой… А потом рябая такая упредила меня. У нас, говорит, дорогой товарищ, — норма. Если не хватает, надо пикировать. А сама щерится, — повернулся к Анисимову, попросил: — Придвинь хлебушек-то, не жадай.
И опять все заговорили, забегали, засуетились. Открывали банки с консервами, резали хлеб. Овчаренко все пытался и никак не мог расстелить чистую газету.
— Да пидождить вы! — повторял он. — Треба, щоб по всем правилам!
— Чтобы по всем правилам, сбегай ты к старшине, — сказал Лихарев. — Понял?
Пришли Агарков и Коблов.
— С прибытием тебя! — поздоровался ротный и опустил огромную, тяжелую, словно кувалда, руку на плечо Шорина. — С благополучным. Анисимов поначалу все убивался по тебе… А видишь — ничего. Мужик ты крепкий.
Читать дальше