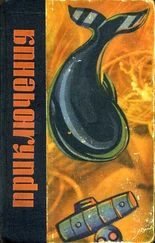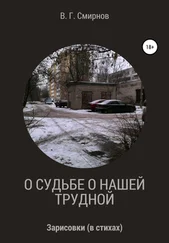Шурка ему все выложил. Про отца, про мать, про десятое колено. Шурка не вертелся, не ерзал, углем на смоле не писал.
— Мать, значит, из чернобыльских Сажнюков? — спросил Парфеник.— Это не племянница того Сажнюка, что в районных председателях ходил в тридцать пятом и в тридцать шестом?
Шурка кивнул. Вот так Батя — Сажнюков знал, а про Доминиани не слышал!..
Потом Шурка развязал шпагат, стягивающий в сапоге подошву и верх, достал прорезиненный пакетик, из пакетика извлек подмокший, пошедший пятнами комсомольский билет. Ох, билетик!.. Дорог ты Шурке, вдвойне всегда был дорог — мать за этот билет с секретарем райкома билась, спасая Шурку от горькой судьбы изгоя; сейчас ты дорог втройне. Через тебя — дорожка к своим.
Парфеник повертел билет, почитал, проверил уплату взносов. Конечно же, за два месяца не плачено, два месяца, отставши от разбитого батальона новобранцев, Шурка бродил по лесам.
— Не побоялся, значит? — спросил Батя.— Пронес?
Шурка промолчал.
— Что ж,— сказал командир,— добре. Пришел ты не в теплую хату. Мы со смертью, как дитя с колыской, разом качаемся. То сюда, то туда. Уразумеваешь?
— Да,— сказал Шурка.
Ему-то как раз казалось, что он попал в теплую хату.
— Теперь вопрос,— говорит Сычужный.— Будем задание людям открывать или ограничимся приказом?
— Как, комиссар? — Парфеник рассматривает исчерченный узорами копоти потолок, щуря один глаз.
Запевалов поправляет ремень и одергивает гимнастерку. Гимнастерка всегда сидит на нем ладно; даже в самые тяжкие времена, латанная по латкам, она туго и крепко обтягивала грудь, худые остроугольные плечи, сходясь точно согнанными под ремнем складками к крестцу; это у него привычка такая, у бывшего начальника заставы, перед каждым важным решением облаживать форму.
— Надо рассказать все,— говорит Запевалов после недолгого размышления.— Задание особого рода, такого еще не было. Не было. Сложное задание и… не очень приятное. Не очень. Тяжело будет людям. Тяжело. Они должны знать, что делают. Должны знать, что от них зависит судьба всего отряда. Всего отряда… Даже более того, судьбой общих, далеко идущих планов. До Волги идущих. Тогда они сделают все, что могут. Что могут.
Комиссар — оратор не из самых блестящих. К фразам дважды подставляет окончание, вроде песенных припевок. Это от борьбы с заиканием после контузии; в ту пору, когда отряд был так невелик, что размещался в двух лесных куренях, Запевалов как военспец сам ходил подрывать «железку», и однажды на мосту ему пришлось, в виду патруля, запалить предельно короткий шнур. Не успел отбежать далеко. С заиканием комиссар справился, но речь у него стала на два хвоста, с припевками.
Парфенику, однако, речь Запевалова нравится. Хоть мычи, да чтоб с мыслью!
— Вот! — резко поворачивает голову Батя.— Вот… Мы людям доверяем жизни, значит, должны доверить и правду.
5
В то время как Шурка в холодеющей осенней ночи ждет того часа, когда придет к нему Вера, и старается отбросить всякие мысли о более отдаленном будущем, а именно о рассвете, помощник помпотыла Курчени, начальник обозных и самый лучший партизанский ездовой Коронат Пантелеевич Шморкун (дядько Коронат) в полной темноте делает последнюю проверку своего гужевого транспорта. Как опытному пулеметчику не нужно света, чтобы разобрать и собрать свое оружие, так и Коронату ночь для работы не помеха. Он заставляет своих ездовых покачивать возы, прислушиваться к скрипу шкворней, согнувшись, стучит по жердям лисиц — крепко ли связаны «подушки», нет ли в дереве трещины,— дергает колеса, выверяя ступицы, тянет за железные тяжи, всем телом наваливается на грядки, чтобы ощутить прочность крепящих кузов нахлесток.
Горе тому ездовому, который в нерасторопности своей плохо приткнет тяж чекой или оставит разболтанную, скрипящую ступицу в распоряжении «дядьки Нехая» [8] Н е х а й — пусть, пускай, авось ( укр. ).
. Не обругает подчиненного Коронат, не напишет докладную, не определит наказания, а только выразится вскользь, да так, что мимолетное словцо пристанет к провинившемуся, как банный лист к одному месту, и будет оно, раздуваемое при случае товарищами, будто прикурочный уголек, жалить и жечь; пуще всякого выговора в приказе боятся ездовые Коронатова определения. Вот почему не скрипят в обозе втулки, не гремят тяжи, не обваливаются, сбрасывая груз на землю, борта телег — грядки. Лучше, недоспав, самому отклепать в походной кузне чеку или запасной подковный гвоздь-ухналь, чем заслужить у Короната что-нибудь наподобие «Работящий ты, Осип, как кот на печи, аж мне страшно за тебя», или «Ты на телеге поедешь, Петро, или будешь играть, как заяц на бубне?», или «Семен, любый ты мой; я скорее у яловой коровы теля добуду, чем у тебя справную работу». Другой скажет — и мимо пролетит, а Коронат скажет — прицепится.
Читать дальше