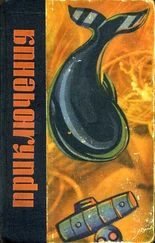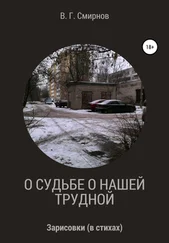Ну а уж если коня недосмотрел, тут Коронат переходит к выражениям куда более интересным. За коня командир ездовых сердится, как за обиженное дитя. Он с малых лет лошадник и благодаря своему пониманию этих животных работал до войны фельдшером, не имея специального образования, в ветеринарной лекарне у самого Петра Алексеевича Черныша, врача, известного на Житомирщине.
— Возьми теперь научную мысль! — кричит Коронат новичкам.— Каков у скотины ум? Чем дурнее животное, тем больше алкоголя может принять! Свинья — бесконечно много, корова — два литра, а лошадь, при своем громадном росте, только четвертинку!..
Рассказывали, как-то на ярмарке в Народичах, малость подгуляв, Коронат побился об заклад с самим цыганом Михаем, что с завязанными глазами вызначит возраст любой подведенной к нему коняки и более чем в год промашки не даст. И выставили оба в заклад свои сапоги: Михай— козловые, легкие, крашеные, а Коронат — свои вытяжки, бесценные, что голенищами охватывают ногу под самый пах, если растянуть, а если сжать — то парой гармошек блестят и играют.
И подводили к Коронату игровых однолеток, подводили трехлетних, в беговом соку, жеребцов, подводили рано и обманчиво одряхлевших меринков, загнанных артельных кляч, запаленных чемпионов. Коронат зубы им не ощупывал, не сгибал ноги, прислушиваясь к суставному треску; он лицом, плотно по переносице охваченным черным свернутым втрое платком, чтоб ничего не видел, прижимался к шерстистым теплым и влажным бокам, внюхивался, водил ладонями по вздрагивающей шкуре, размышлял под стиснутое дыхание сотни зрителей и называл не только лошадиные годки, но и откуда примерно прибыл хозяин, где выпасает лошадь, на каких работах держит, хорош он или плох.
Ведьмак Коронат, и только.
Ну, конечно, сапоги цыганские он не взял, не из-за них спорил, и, чтоб не было обидно цыгану, чтоб не пошла о нем худая слава, пропили они и козловые, и вытяжки, и до самого конца ярмарки цыган плясал босиком, а Коронат, босиком же, притоптывал.
Такой вот Коронат ездовой, да к тому же еще травник и знаток полесских лесов и троп. Парфеник дурней не держит, у него каждый на своей дуде играет как никто другой.
И вырастает перед Коронатом командирский посыльный, боец комендантского взвода Витя Губа, пятнадцатилетний партизан, близнец часового Васько, ибо одна мать их родила — сожженная полесская деревня.
— Вас, дядько Коронат, до себе Батько кличут. Дуже срочно. Прямо негайно!
И спешит Коронат. И выносит он свое темное и морщинистое, как старая скомканная для стирки рубаха, лицо к командирскому огню. Глаза его, узкие, щелочками, оттянутые к вискам вниз, еще больше щурятся на пламя плошки, совсем теряются среди складок. Но хорошо, по-кошачьи видят узкие глаза Короната и в ночи, и днем, и при плошке. И различает Коронат не только командиров, но и человека на лавке под рядном.
— Попрощайся с Миколой, Коронат. Хоть пойдешь ты с ним в дальнюю дорогу, попрощайся сейчас.
А потом, когда Коронат, который всегда готовил для Миколы, общего любимца, лучших лошадей, чтобы повернее доставить разведчика к границам партизанских владений, и лучших же лошадей, не щадя, высылал для встречи, еще более потемневший лицом, садится к столу, между ним и командирами начинается беседа, совет специалистов. В ней конечно же много непонятного, обрывочного, для постороннего человека несвязного, как и во всякой профессиональной беседе.
— Думаю так, товарищи, что надо повезти его на таратайке, однооске. Почему? Если к седлу приторочить, привязать, сильный след от веревок будет. Могут догадаться, что привезли.
— А таратайка пройдет? Не везде дороги…
— Есть у меня такая, что дуже узкая. Для лесу.
— За сколько, Коронат, сможете до Груничей дойти?
— Если без ЧП… Да за три-четыре ночных часа осилим.
— Нам надо так, чтоб они не поняли, когда убит. Когда убит.
— Там, под Груничами, ручей. В ручей уроним. Вода холодная, за полчаса выстыть должен. И кровь уходит. Не поймут.
— А найдут?
— Так уроним, что найдут…
Через десять минут у командиров второй собеседник — автоматчик Павло Топань, боец разведвзвода, основной добытчик «языков», весь, как канат, сбитый из жил, быстрый, по-молдавски смуглый, с черным стреляющим взглядом. Павло уже знает про смерть Миколы, в угол на лавку не смотрит, глаза горят ненавистью, как у затравленного хорька. Павло — человек действия, он не умеет горевать, он хочет мстить. Пальцы его, тонкие, сильные, непрерывно играют. Пальцы Павла́ становятся спокойными, только если берутся за цевье автомата или рукоять ножа. Эта игра пальцев началась на второй день войны, когда очередь с «мессершмитта», прошедшего над приднестровским селом, убила красавицу Мариту, с пятнадцати лет обрученную с Павлом. Марита ждала Павла, а Павло ждал суда за лихую драку из ревности.
Читать дальше