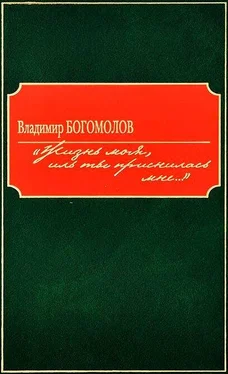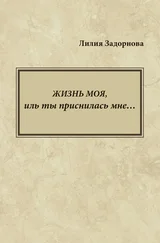Я сумел только разобрать:
Unser lieber Vater: [76] Нашему дорогому отцу. Нашей доброй бабушке» (нем.)
1851–1913
Unsere gute Großmutter
1851–1928
Поодаль, вдоль ограды — надгробные плиты или просто камни со скромными простыми крестами — захоронения бедных. В самом дальнем от церкви участке, но в пределах ограды, я нашел три свежих могилы: на холмиках осыпающейся земли лежали увядшие цветы и камни, обернутые кумачом. На одном из них я прочел: «Карпенко Николай. Гвардии сержант». И сразу мне стало ясно место для нашего захоронения.
Я хорошо понимал, что, согласно приказу, ни Лисенкова, ни Калиничева мы не могли похоронить на воинском кладбище как погибших в бою или при исполнении служебных обязанностей, тем более с отданием воинских почестей. Но в приказе не было оговорено и запрещение хоронить на территории немецких кладбищ.
Я знал, что христианская религия самоубийств не одобряла никогда… Считалось, что добровольно уйти из жизни — большой грех… Самоубийц отказывались отпевать в церкви и хоронить вместе с другими людьми. Но ведь Лисенков и Калиничев не были самоубийцами, и лучшего места для их захоронения, чем на церковном кладбище, как мне казалось, чтобы их души упокоились в освященной земле, нет. Пусть будет им пухом даже чужая немецкая земля!
Оба гроба с прибитыми к крышкам воинскими фуражками опустили в могилу, на холмике установили деревянную пирамидку с пятиконечной звездой. На пирамидке, выкрашенной в зеленый цвет, белой масляной краской крупными буквами были выведены фамилии:
Рядовой Лисенков А.А.
1920-26.5.1945
Сержант Калиничев Е.П.
1926-26.5.1945
Могильный холмик обложили заранее заготовленным дерном. Прогремевший прощальный салют боевыми патронами из десяти автоматов всполошил немцев, присутствовавших на воскресной службе. Они высыпали из кирхи на улицу и стояли испуганные, о чем-то громко и неприязненно переговариваясь, бросая злобные взгляды в нашу сторону. Из раскрытых дверей доносились звуки органа и пение: «Christus spricht… ich lebe, und ihr sollt auch leben…» [77] «Христос говорил… я есть жизнь, и вы также должны жить…» (нем.)
— Возмущаются, что хороним без разрешения… в ограде кирхи… — негромко сказал Елагин. — Особенно горланит и лезет из кожи вон тот подстрекатель, — и, указав глазами на хромого, стал мне переводить. — Осквернение церкви и чувств прихожан… Упоминает «Тэглихе рундшау» [78] «Тэглихе рундшау» («Ежедневное обозрение») — газета советских оккупационных войск для немецкого населения на немецком языке. Первый номер вышел 15.5.45 г.
… нашу газету для немцев… цитирует какую-то статью… Советская армия называется освободительницей… от чего же она освобождает немцев… От Бога и от имущества?.. Явный намек на мародерство… Говорит, что при Гитлере был порядок, а теперь хаос… Пришли русские и начались грабежи, насилия… убийства и осквернение церквей… Мол, Гитлер, нам еще покажет… Ну, несет — ему что, жить надоело?.. Угрожает, что будут жаловаться на нас коменданту… Господь не потерпит такого кощунства… угрожает нам божьей карой…
Бойцы, стоя вдоль края могилы, прислушивались к тому, что переводил мне Елагин и он, заметив это, умолк. Хромой немец, никак не подозревая, что Елагин германист и в совершенстве знает немецкий язык, не стесняясь, продолжал высказываться. Он, не переставая, что-то громко возбужденно выговаривал метрах в пятнадцати у нас за спиной, время от времени срываясь на крик.
— Знаешь, чем это кончится? — спросил меня Елагин. — Не сегодня, так через неделю они разроют могилу и выкинут ребят. Пойди и успокой их! — приказал он. — Поговори с ними! Мамус Хренамус! И припугни хорошенько на будущее! Так, чтоб в штаны наваляли! Только без шума!
«Мамус Хренамус!» означало, с одной стороны, его издевательски- презрительную оценку моего невежества в немецком языке, с другой — указание на необходимость объясниться со священнослужителями по-немецки.
Я медленно шел к кирхе по усыпанной золотисто-желтым песком дорожке, выбирая из десятка заученных мною не без труда и старания немецких фраз наиболее подходящие. При этом я перетянул кобуру с правого бедра на живот и одернул гимнастерку.
Хромой немец при моем приближении стал говорить немного тише, без выкриков, но высказывался не умолкая, и по-прежнему возбужденно и угрожающе. Его темные, глубоко посаженные глаза горели злобой и ненавистью.
Пастор — рыжебородый приходской священник, высокий упитанный мужчина, лет сорока пяти. На тщательно выбритом лице небольшие усы и бородка с проседью, как нагрудная слюнявка, какие повязывают детям, спускалась от подбородка, волосы спереди подстрижены ровно, «под горшок», сзади — значительно длиннее, красиво лежали на плечах; в черной сутане и белоснежных туго накрахмаленных воротничке и огромных, как жернов, брыжах. Он стоял с надменным видом, сложив руки на животе, и смотрел на меня презрительно, холодно, с отвращением.
Читать дальше