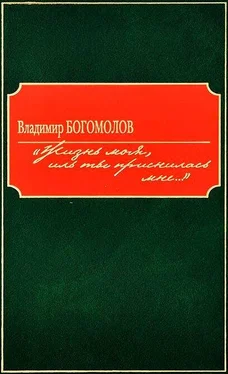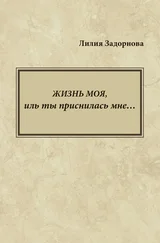Тем временем Ежов приносит три больших граненых стакана и раскладывает вилки.
Спустя еще минуты в хату заходит женщина лет двадцативосьми-тридцати, среднего роста, худощавая, но ладная, скромно, а точнее бедно, одетая, в потертом темно-сером пиджаке и такой же старенькой юбке; на крепких, загорелых ногах — стоптанные, обтреханные парусиновые туфли, на голове — черный платок, повязанный низко над бровями, как у монашки.
Нерешительно переступив через порог, она останавливается и негромко здоровается; лицо у нее хорошее, приятное, но очень уж невеселое, тоскливое.
— Татьяна, — представляет ее мне Ежов и, обращаясь уже к ней, говорит: — Вот лейтенант приглашает тебя поужинать. Благодари!
— Спасибо, — так же тихо произносит она, опустив глаза и продолжая стоять у порога.
И снова я ощущаю неловкость: позвал ее он, я ее не приглашал и даже не знал о ее существовании, за что же меня благодарить?
Только по команде Ежова она под ходит к столу и, по-прежнему не поднимая глаз, садится, куда он указывает: на стул напротив меня.
— Сними платок. И жакет сними, — командует он. — Ты чего такая смурная?
— Извините, Юрий Иванович… — снимая с головы черный платок, тихо просит она и неожиданно всхлипывает. — Сегодня ровно месяц, как доченька… умерла…
— Сколько дочке было-то?
— Два с половиной года.
— Довоенная, — отмечает Ежов. — Ангелочек… Все там будем, — понимающе вздыхает он. — А пока она еще здесь, помянем покойницу. Как звали-то ее?
— Оленькой… Ольгой, — всхлипывает женщина, вешая пиджак на спинку стула, и торопливо вытаскивает носовой платочек: слезы катятся у нее из глаз.
— Пусть земля ей будет пухом, — говорит Ежов и вскидывает глаза на божницу, затем, взяв бутылку, начинает лить самогон в мой стакан, но я решительно останавливаю его, правда, с четверть стакана он успевает налить, потом наливает полный, до краев, себе и немного учительнице. — Спи спокойно, Ольга, отряхнув с ног прах… Ты уже дома, а мы еще в гостях… — негромко декламирует он. — Вперед!
Он поднимает свой стакан, снова взглядывает на божницу, медленно выпивает все до дна и принимается с аппетитом энергично закусывать салом и малосольным огурцом. Я тоже пытаюсь выпить, но даже половины налитой мне гадости одолеть не могу — такая это крепчайшая тошнотная сивуха. Женщина делает глоток, морщится, давится кашлем и вдруг, закрыв руками лицо и вздрагивая всем телом, жалобно плачет.
— Кончай, Татьяна! — строго говорит Ежов. — Не за тем тебя позвали, чтобы лейтенанту настроение портить. Помянули, и хватит! — затем, как бы извиняясь и оправдываясь за свою резкость, добавляет: — Дочку не вернешь, а тебе жить надо.
Он поворачивает лицо ко мне и, выдержав паузу, поясняет:
— Не волнуйтесь, лейтенант, она сейчас успокоится. Татьяна девушка культурная, понятливая. Чистенькая, здоровая и послушная. Все будет хорошо, будьте уверены!
Сызмальства воспитанный бабушкой и дедом в уважении к учителям, как к самым образованным, самым умным и достойным людям, и притом испытывая к этой женщине чувство жалости, я старательно подкладываю ей в тарелку кусочки сала и селедки, малосольные огурцы и маринованные грибочки, она, не поднимая глаз, еле слышно благодарит.
Она действительно не по-деревенски культурная: умело держит вилку и ножик, режет огурец на маленькие кусочки и даже небольшие ломтики сала, прежде чем взять в рот, разрезает пополам, ест неторопливо и беззвучно, однако жует не переставая, без малейшей паузы, и я вскоре понимаю, как она голодна. Я успел разглядеть аккуратную штопку на обшлагах пиджака и на плече старенькой ситцевой блузки, обратил внимание на выражение обреченности или затравленности в заплаканных темно-карих глазах, и жалость к ней переполняет меня.
Когда старуха приносит и с легким стуком ставит на стол чугун с дымящимися наваристыми щами, я вилкой подцепляю большой кусок мяса и кладу на тарелку учительнице. При этом я замечаю быстрый, неодобрительный взгляд Ежова: может, ему не нравится, что я хозяйничаю за столом? Но меня это мало трогает — он мой подчиненный и при таком обилии продуктов нечего жадничать.
Выпив уже третий или четвертый стакан самогона, он ест шумно, жадно и неопрятно: звучно чавкает, выплевывает кости от селедки на пол худой, с лишайными проплешинами кошке, хватает еду руками, облизывает пальцы и вытирает их о низ гимнастерки. Ему жарко, то и дело шморгая носом, он утирает рукавом пот с багровокрасного лица.
Читать дальше