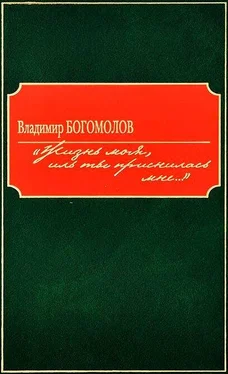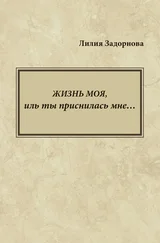— Иди, епи ё мать, Федоткин, в пятую роту к Назарову и набирайся ума! Без дела не обращайся, без победы не появляйся! Иди!
Последнее, что мне запомнилось в ту ночь в землянке майора Тундутова, было красное в крупных каплях испарины рябое лицо пожилого бойца, испуганно тянувшегося с дюралевой ложкой в руках по стойке «смирно» возле сковороды с жарившимся картофелем. Несколько удивленный сплошным матом, сопровождавшим каждое произнесение моей перевранной фамилии, и если не обиженный, то в глубине души задетый тем, что мне даже кипятку для сугрева из парившего чайника не предложили, я вывалился из землянки под холодный пронизывающий ветер, никак не представляя, где в этом темнющем лесу располагается пятая рота и куда мне идти. Я и помыслить в тот час не мог, что отъявленный матерщинник майор Тундутов окажется не самым большим сквернословом и не самым грубым начальником в моей офицерской службе, и тем более представить себе, разумеется, не мог, что этот всесильный, как мне показалось, твердокаменный, поистине несокрушимый командир будет спустя месяц под Снегирями на моих глазах, как простой смертный, раздавлен тяжелым немецким танком, расплющен в кровавую массу, а я, подбежав, упаду на снег рядом с ним на колени и в очередном скоротечном отчаянии от внезапности и непоправимости произошедшего, находясь, несомненно, в шоковой минутной невменухе, буду звать его как живого, точнее, кричать нелепо и абсурдно: «Товарищ майор!.. Товарищ майор, разрешите обратиться…»
Без рассуждения не делай ничего, а когда сделаешь, не раскаивайся.
Между тем веселье продолжалось, тосты следовали один за другим.
Тихон Петрович быстро пьянел: на лице выступили красные пятна, глаза сделались мутными; и, мотнув своей бычьей головой в мою сторону, он приказал:
— Вася, угости музыкой! Крути патефон!
И я крутил… Я был еще не пьян, но понимал, что с каждой выпитой рюмкой меня все меньше отделяет от Тихона Петровича «стадия непосредственности».
На меня, приставленного к патефону, никто не обращал внимания. С тоской поглядывая на танцующих, я удивлялся, как неуклюжи были кавалеры: они еле-еле переставляли несгибающиеся ноги, спотыкаясь, наступали дамам на красивые туфли, спину держали неестественно прямо, правая рука была вытянута во всю длину, а ладонь цепко ухватывала женскую руку, как бы удерживая ее, чтобы партнерша ненароком не сбежала, левую же пытались опускать со спины все ниже и ниже, одновременно теснее прижимаясь всем телом к партнерше — и как ни странно, женщинам это нравилось, судя по тому, как они щебетали и призывно улыбались, глядя снизу вверх если не в глаза, то в лицо.
Ни Володька, ни Мишута танцевать не умели и никогда не принимали в танцах участия. И сейчас Володька в противоположном от меня углу из-за стола наблюдал за танцующими и развлекал Аделину разговорами.
Я смотрел на топчущихся — разве можно было это назвать танцами? — с некоторым тайным превосходством: я-то умел танцевать, был гибок, легок, подвижен и, главное, получал от этого удовольствие. Меня в раннем детстве и бабушка, и дед, и мать научили владеть своим телом, обучили разным пляскам и танцам и привили к ним любовь. И на меня нахлынули воспоминания…
Бабушка в детстве меня поучала: «Плясать учись смолоду, в старости — не научишься». По ее просьбе — в молодости неутомимой плясуньи — дед брал балалайку и послушно играл, а я плясал «русскую», «камаринского», «барыню», ходил вприсядку. Плясать мне, как правило, не хотелось, и я скоро останавливался, но бабушка говорила: «Васена, не ленись! Будешь хорошо плясать, и девки будут любить!» И в пять, и в девять, и в двенадцать лет я еще не думал о любви девок, мне это было ни к чему, но дед продолжал играть на балалайке, лицо его, когда я переставал плясать, мрачнело, и я вынужденно пускался снова в пляс, а бабушка, довольная, подбадривая меня, со счастливым лицом хлопала в такт танцу в ладоши, ходила вокруг меня, или, уперев руку в бок, дробила каблуками, или, мелко семеня ногами, помахивала над головой белым платочком, припоминала и показывала мне новые движения.
Изредка обучал меня и дед. Когда ему надоедало играть, он заводил патефон, с неулыбчиво-строгим, серьезным лицом выходил на середину избы и показывал мне чисто мужские фигуры, вроде, например, присядки [69] Присядкой называются движения, свойственные только мужскому танцу, основой которых является глубокое приседание.
с ударами руками по голенищам, что было смешно и нелепо, так как ни сапог, ни голенищ на мне не было; я бил ладошками по штанинам пошитых из старья порток, отчего потребного при этой присядке четкого, звучного хлопка не получалось, да и быть не могло.
Читать дальше