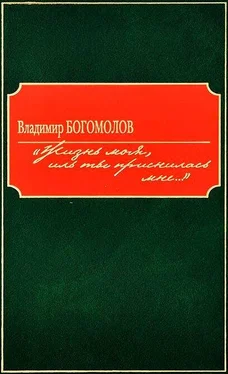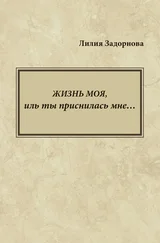— Гутен таг, — поправляя ее, ответил я и, сняв иглу с пластинки, остановил патефон.
— Brot!.. Кусотшек клеба! — по обыкновению, заученно проговорила она.
Я этой просьбы ждал и неторопливо достал из комода и протянул ей три печеньица из остатков офицерского дополнительного пайка. Она деловито сунула их в карман и тут же снова попросила:
— Zigaretten.
У нас в деревне маленькие дети, когда им давали печенье или пряник, сейчас же засовывали их в рот и немедля съедали, она же, приходя ко мне, ни разу этого не сделала, и я не сомневался, что ее заставляют попрошайничать мать или бабушка, и в свои неполные пять лет она твердо знает, что все полученное здесь надо унести и отдать взрослым.
— Zigaretten, — настойчиво повторила она и протянула ладошку.
— Найн!
Эго была ее обычная уловка или игра: попросить сигареты — которые я ей никогда не давал — и после моего отказа тут же потребовать что-нибудь сладкое. Как я и ожидал, тотчас послышалось тихо и жалостно:
— Kompot… Gib mir Kompot…
При этом она состроила обиженную физиономию и, подойдя ближе, взяла меня за руку, словно просила моей защиты. В который уж раз я подивился хитрости или плутовству этого ребенка и снова подумал, что всему этому ее, очевидно, учат взрослые — бабушка и мать. Впрочем, не только в провинции Бранденбург, но и во всей Германии из миллионов немцев она была одной из немногих, к кому я мог испытывать добрые чувства — я даже забывал иногда, что она немка, и, хотя до поездки в Левендорф оставалось немного времени, я счел возможным на десяток минут расслабиться и угостить ее и самого себя. В ванной из-под струйки холодной воды, круглосуточно фонтанировавшей в биде, я взял банку компота из черешни, принес большие фарфоровые блюдца и чайные ложечки.
Мы расположились, как и обычно, в проходной комнате в мягких креслах у распахнутого настежь окна, я открыл банку и положил ей полное блюдце крупной мясистой ягоды, затем положил и себе — такой вкусной черешни, какую я ел тогда в Германии, я больше никогда не встречал. Прежде чем начать, Габи по привычке оглядела оба блюдца, желая убедиться, что ее не обделили. При всей моей любви к компотам я не забывал, что она ребенок, накладывал ей больше, чем себе, и спрашивал:
— Гут?
И она, улыбаясь, поднимала совсем по-русски свой большой, размером с миндалину, пальчик и отвечала:
— Gut!
Верхние ветви уже терявшей цветы сирени теснились перед окном, у левой створки грозди дотягивались до верха стекла. По- весеннему свежая, промытая дождиком зелень не могла не радовать глаз. Мы в молчании, не спеша, с удовольствием ели прекрасный холодный компот, я выплевывал косточки в листву, Габи — она стояла в своем кресле на коленках — пыталась мне подражать, но у нее чаще всего не получалось, косточки падали на широкий мраморный подоконник, и каждую мне приходилось поддевать ложечкой и выбрасывать в окно.
Маленькие светлые облака плыли в бледно-лазурном небе, легкий ветерок тянул из сада, и было так славно, так хорошо, чувство приятного умиротворения охватило меня, как и обычно, когда я садился в это мягкое кресло у окна.
Надо было окончательно определиться с подарком и, наверное, продумать все, что предстояло вечером: детали своего знакомства с Натали — она представлялась мне красивой блондинкой с хорошей фигурой — и поведения на дне рождения. Но почему-то уверенность, что и так все сложится без всяких затруднений и шероховатостей, появилась во мне — я расслабился до благодушия, и в эти минуты не хотелось ничего обдумывать, прикидывать и репетировать.
…Капитан Арнаутов любил, отдыхая, раскладывать пасьянсы, подражая тем самым своему кумиру — великому полководцу Александру Васильевичу Суворову, который, как он рассказывал, в любых условиях раскладывал их — и дома, и в походах, и в напряженной обстановке, особенно — «дорожку» и «косынку». И сейчас у себя в номере Арнаутов, очевидно, раскладывал пасьянс и по обыкновению негромко напевал — оттуда доносилось раздумчивое, на мотив, схожий с мотивом «Аникуши»: «Гранд-пистон сменился гранд-клистиром… Позади осталась жизнь моя…» Я тогда еще не знал, что это слова из старинной русской офицерской песни, точнее из песни офицеров-отставников. Только спустя сорок с лишним лет, перешагнув в седьмое десятилетие своей жизни, я ощущу и осознаю актуальность и всю неотвратимую правоту этих слов.
Я слышал, что в связи с окончанием войны в штабе дивизии уже подготавливаются списки офицеров, подлежащих демобилизации; разумеется, Арнаутов по возрасту подпадал под увольнение в первую очередь. Призванный в армию в порядке исключения после гибели сына и письма Сталину, он был самым старым из офицеров не только в дивизии, но, наверно, и в корпусе, и в армии, и было ясно, что отстоять его даже Астапычу не удастся. Мысли о предстоящем неминуемом расставании со стариком и о его дальнейшей судьбе в последнюю неделю не раз посещали меня и крайне огорчали.
Читать дальше