— Пойдем, «кренометр», на вахту пора.
Вот так и прилипают обидные прозвища — попробуй потом отделайся!
Через несколько минут рулевой уже стоял у штурвала, напряженно следя за картушкой компаса. Но в тот же вечер…
В душевой Бандура старательно выстирал носовые платки. Сушить их он повесил на коротеньком шкертике между грот-мачтой и полуютом: тут и встречный ветер не буйствовал, и теплый воздух струился от вентиляшек. А через полчаса в его каюте раздался требовательный телефонный звонок:
— Товарищ боцман? Срочно на корму!
Бандура, слегка разомлевший после душа, торопливо напялил меховую куртку-канадку, прихватив на всякий случай пару брезентовых рукавиц, если понадобилось бы работать со стальными тросами.
Возле грот-мачты толпились моряки. У Семячкина за ухом торчал карандаш, а сам он стальной рулеткой старательно вымеривал что-то на палубе. Заметив боцмана, присел на корточки, вытянул руку с поднятым большим пальцем и, зажмурив глаз, стал важно разглядывать мачту.
— Что тут? — спросил озабоченно Бандура.
Рулевой шептал губами, что-то высчитывая в уме.
— Шестью шесть — тридцать шесть? — спросил он внезапно у боцмана.
— Ну, тридцать шесть… — согласился растерянно тот.
— Тогда правильно, — строго и таинственно заключил рулевой. Он поднялся, подошел вплотную к Бандуре и снова вытянул руку с пальцем: — Глядите, товарищ боцман. Зажмурьте глаз, да нет, другой! Видите?
— Что?
— А то, что мачта покосилась, не в створе. Хорошо, что вовремя заметили с мостика! — Бандура все еще не понимал, что происходит, а рулевой крикнул: — Сергуня! Ну-ка сними платочки! — Моторист быстро обрезал ножичком шкертик, и Семячкин опять по-хозяйски зажмурил глаз: — Так-так, вот теперь порядок: мачта на месте, в створе! — И грозно спросил у собравшихся, которые давились еле сдерживаемым хохотом: — Судно решили из строя вывести? Мачту накренить? Чьи платочки?
Видимо, он уловил что-то во взгляде боцмана, потому что в следующее мгновение стремительно метнулся по трапу на полуют, а вслед ему, в спину, полетели брезентовые боцманские рукавицы.
— Ну-ну, хулиганить на судне запрещено! — уже с полуюта, чувствуя себя в безопасности, откликнулся Семячкин. — За это могут списать с корабля! Хотя вам, конечно, товарищ боцман, кроме якорь-цепей, терять нечего.
Потом, когда хохот вокруг поутих, он поднял руки — дескать, сдаюсь! — и медленно спустился обратно на палубу. Пыл у Бандуры тоже угас, и боцман, подбирая рукавицы, беззлобно посоветовал рулевому:
— Ты бы в киноартисты подался, Петра Алейникова играть.
— Наркомат не отпустит, — с сожалением, на полном серьезе ответил Семячкин. — Весь флотский порядок держится на рулевых.
К Бандуре придвинулся Сергуня, робко протянул срезанный шкертик с платочками:
— Возьмите, товарищ боцман…
— Чего? — возмутился тот вдруг. — Измял мазутными лапами, а теперь — возьмите? Черта лысого! Выгладишь, спрыснешь одеколончиком — после и принесешь. Понял?
Смеялись над растерянным мотористом, признавая, что требование боцмана справедливо и обоснованно. И уже подсказывали Сергуне, где раздобыть утюг, рекомендовали заранее поинтересоваться, какой одеколон предпочитает Бандура, дабы не попасть впросак и после не перестирывать платочки наново, с единственной целью вывести из них неприятный боцману дух.
— Посоветуйся с Тоськой, у ней все розы-мимозы имеются.
— Розы-мимозы не надо, — смеялся вместе со всеми Бандура, — не то меня в Мурманске жена из дому прогонит.
— Вам что, впервые? — хихикнул кто-то и тут же осекся, словно проглотил недозволенные слова: по моряцким неписаным законам всякие шутки на темы семьи запрещались — за это можно было запросто схлопотать по шее, и тут уже даже вмешательство Саввы Ивановича не помогло бы.
Оживление, вызванное плаванием к дому, не обмануло, конечно, и Лухманова, хотя он казался более сдержанным, чем остальные. Усталость минувших суток отдавалась тупой тяжестью в голове, однако в сон уже не клонило, как раньше, в тумане. Лухманов выхаживал позади рубки, где было не так ветрено, молча радуясь предстоящей встрече с Ольгой. Теперь, когда встреча виделась скорой, он уже не гнал от себя мужских, откровенных мыслей, внезапно почувствовав, что соскучился по жене. Мысленно был уже дома и заранее радостно переживал — в который уж раз! — те минуты, когда они с Ольгой останутся наконец наедине. Он знал, что подобные минуты никогда затем не сохраняются в памяти. Двое людей, истосковавшихся друг по другу, наполняют их таким обилием чувств и порывов, что невозможно уже в отдельности эти минуты отличить одну от другой. Они приходят как высшая награда любящим за долгие месяцы тревог и разлуки. И Лухманов время от времени улыбался, словно уже слышал торопливые слова, которые будет шептать ему Ольга.
Читать дальше




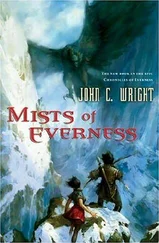

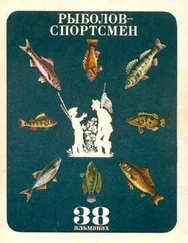

![Диана Билык - Сквозь туманы. Часть 1 [СИ]](/books/406926/diana-bilyk-skvoz-tumany-chast-1-si-thumb.webp)


