— По местам стоять, с якоря сниматься! — скомандовал он и улыбнулся, так как все на «Кузбассе» были давно на местах.
Видимость не улучшалась. Дождь измельчал, превратился в морось, которая за бонами, над холодными глубинами океана, переходила в туман. Транспорты вползали в него медлительно, боязно и там начинали пугливо и тревожно вскрикивать сиренами и гудками, продвигаясь вслепую, на ощупь. Отголоски этих гудков доносились до мостика «Кузбасса», и Савва Иванович в конце концов не вытерпел, проворчал:
— Тут и без немцев перетопим друг друга…
— Зато мы надежно скрыты от посторонних глаз, — ответил Митчелл. — Кончится туман, тогда круглые сутки будем… как это по-русски? На блюдечке?
— И то верно, — не стал возражать помполит. Лейтенанта тут же вызвали в радиорубку: коммодор, уже находившийся в море, в тумане, давал какие-то наставления.
Двинулся транспорт, которым командовал Гривс, и в следующую минуту наконец-то обронил долгожданное и Лухманов:
— Пошел брашпиль!
И тотчас же на полубаке натужно заерзали шестерни, барабан провернулся, впрягаясь в якорную цепь, и она поползла, подрагивая, из клюза — сначала сухая, а после мокрая, оставляя по палубному настилу влажный неровный след. Боцман то и дело перегибался через борт, докладывал на мостик о положении якоря; лишь прокричав: «Якорь чист!», — он разогнулся свободнее. Потом Бандура острой струей воды из шланга смывал с якорных лап липкие глыбы ила, накладывал стопора — с таким расчетом, чтобы оба якоря незамедлительно отдавались, ибо в тумане могла возникнуть и такая необходимость. Но все это он уже совершал привычно, самостоятельно, без команд капитана. А Лухманов, услышав о том, что якорь не поднял со дна ничего постороннего, зачем-то промолвил:
— Пошли! — и перевел рукоять машинного телеграфа на «малый вперед». — Лево руля!
Панорама берега стала медленно оборачиваться вокруг «Кузбасса». В лохматых начесах туч мокрые горы казались еще более темными и насупившимися, словно провожали суда недобрыми взглядами исподлобья. Взору открывались не видимые ранее с теплохода распадки, ущелья, пустынная безжизненность осыпей и вершин, и начинало чудиться, будто это фиорд иной, незнакомый, совсем не тот, что мозолил глаза в долгие месяцы неподвижности. Исландия снова, как в день прихода сюда, представала таинственной и загадочной — землей, сохранившей молчаливость и первозданность ледниковых эпох. Затерянная среди океана, она являла собой заповедник первобытной тишины и земного покоя в хаосе обезумевшего мира сороковых годов двадцатого века. Лухманов ухмыльнулся, вдруг подумав о том, что в осуждающей угрюмости острова заключалась, должно быть, не затаенная злоба географического дезертира, а извечная мудрость природы. Чтобы презирать или осуждать, у этой земли не хватало сытости.
После нового поворота начал скатываться за корму поселок китобоев — с железными бараками, с недостроенным зданием, где проходило совещание капитанов, с одиноким пирсом на сваях. На пирсе стояли несколько человек и так же молчаливо, как горы, провожали суда. И у Лухманова появилось внезапно щемящее чувство, как при любом расставании. К людям на пирсе, к маленькому поселку, к берегам фиорда. Как ни надоели они, ни приелись, с ними все-таки успели сродниться, быть может, даже их полюбить. Сколько дум передумано здесь, переворошено воспоминаний! Он привык вспоминать об Ольге, глядя из иллюминатора на скалистые сопки, и ее зримый образ тоже в какой-то мере сроднился с этими берегами. Вернется ли он, Лухманов, сюда когда-нибудь снова? Хорошо бы в мирное время, вместе с Ольгой, хотя это вряд ли возможно… Что ж, прощай, Хвал-фиорд! Не обижайся, если в сердцах поминали тебя недобро, — ты должен понять нас. Покоя тебе и счастья и полных неводов неразговорчивым рыбакам, что живут на твоих берегах! Спасибо за приют от штормов и подводных лодок. Прощай!
Ему хотелось, как заведено, попрощаться тремя гудками, но это запрещали инструкции, хотя впереди, в тумане, суда ревели ежеминутно. И Лухманов лишь торопливо оглянулся в последний раз, потому что «Кузбасс» уже минул боны и входил в полосу тумана. Тот надвинулся как-то сразу, не дав опомниться. Видимость, по сути, ограничивалась полубаком, только вблизи угадывался пятном вышедший ранее транспорт. На нем зажгли ходовые огни, и его гакобортный расплывчато-тускло покачивался перед глазами — с океана накатывалась невидимая в тумане зыбь. Лухманов приказал включить огни и на «Кузбассе».
Читать дальше




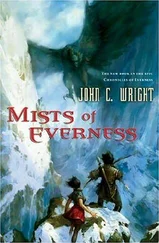

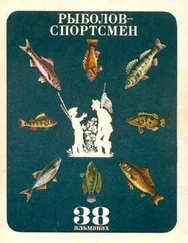

![Диана Билык - Сквозь туманы. Часть 1 [СИ]](/books/406926/diana-bilyk-skvoz-tumany-chast-1-si-thumb.webp)


