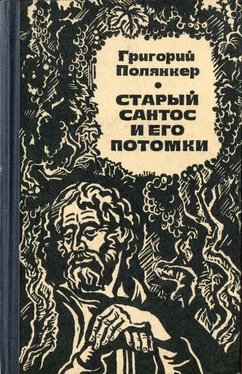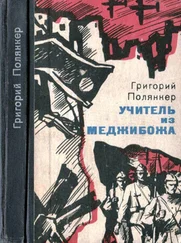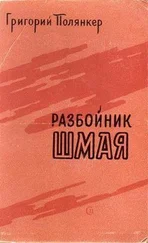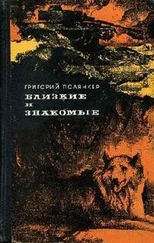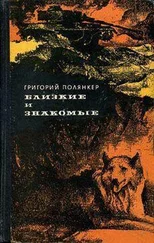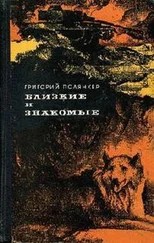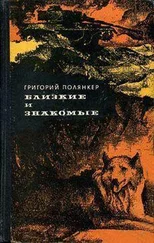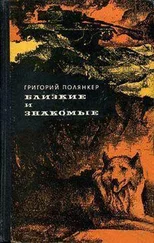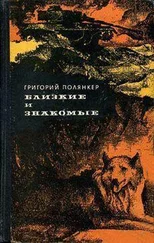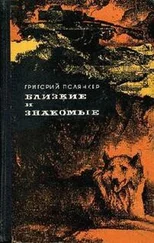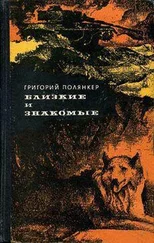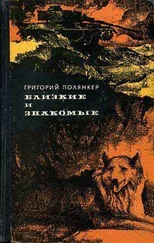Бывало, тихими летними вечерами, когда опьяняющим ароматом напоен воздух, хлопцы и девчата из деревни и местечка выходили к роднику, на опушку леса, к белой скале. И до третьих петухов звучали тогда задорные украинские и еврейские песни. А часто бывало и так: издалека из Лукашивки вдруг доносилось: «Стоит гора высокая…» Сразу эту душевную песню подхватывали в Ружице. А стоило в местечке кому-то затянуть трогательную и немного смешную «Ты не ходи к нечаевским девушкам», как песню подхватывали в Лукашивке. И пошло-поехало!
Да, весело было в этом краю! И жили люди в дружбе и согласии, редко ссорились между собой. Так было и между молодыми, и между старыми, так шло из поколения в поколение.
Многие, если не сплошь все, сельские жители отменно разговаривали по-еврейски, а ружичане изъяснялись на ядреном подольском диалекте так ловко, словно это был их родной язык.
Посторонний человек, появившись здесь, сперва не мог разобрать, одно это огромное село, раскинувшееся по обеим сторонам извилистого яра, или два.
А сколько смешанных свадеб справляли здесь! Сколько переехало сюда, в местечко, белянок синеглазых, чернобровых девчат, сколько чудесных смуглянок из Ружицы перевезли в свои хаты ребята из Лукашивки.
Как-то случилось и такое, что мать наотрез отказалась выдать свою дочь за лукашивского парня-тракториста, потребовав, чтобы они справили свадьбу в Ружице, в довершение еще и по старому еврейскому обряду, точно так же, как она, мать, некогда справляла свою свадьбу. Надо было ставить хупе — с четырьмя палками и красочным покрывалом. Жених и невеста, не желая огорчать мать, справили свадьбу по старому обряду. И все село и все селение гуляли на свадьбе — пили, танцевали, пели без конца. Долго помнили эту веселую свадьбу.
Случалось частенько, что Лукашивка раньше управлялась с уборкой урожая или осенним севом, а у соседей поспел на виноградных плантациях виноград, тогда приходили соседи из села и помогали собирать виноград. А ребята из Ружицы, справившись с работой на плантациях, отправлялись к соседям в поле копать картошку или свеклу. Когда случалась беда — хлеба вымокли, полегли, плохо созрели, на помощь приходили из Ружицы. А бывало, град нежданно ударял и выбивал виноградные кусты. Тогда на помощь спешили люди из Лукашивки.
Так заведено было в этом краю испокон веку. И никого это не удивляло. И ни для кого это не было необычным явлением.
Первое мая и Великий Октябрь издавна праздновали совместно. С флагами и плакатами, с оркестрами и песнями колонны демонстрантов из Ружицы и Лукашивки собирались на площади, как раз посередине — между селом и местечком. И на двух языках звучали речи ораторов. А после митинга, после того как прозвучали речи ораторов, представителей двух сторон, шумные певучие колонны тянулись по улицам Ружицы, затем Лукашивки или наоборот. День-деньской до глубокой ночи в домах, на опушке леса, у родника пили вино, гуляли и танцевали, а вечером в клубе уже гремел концерт самодеятельности… А праздновали здесь новые праздники, равно как и старые, и ко всем праздникам относились с одинаковым почтением.
Так повелось с тех самых пор, как избавились от ига помещиков и богатеев, когда организовались по сторонам крутого яра артели, а может быть, это произошло еще раньше, с той поры, как породнились смежные села и межи их перепутались…
И радости и печали — все было здесь общим. И легче было в беде и веселее в радости.
Много лет тому назад произошло здесь несчастье.
Небольшая церковь, которая и поныне стоит в «нейтральной зоне», — между Лукашивкой и Ружицей, — как-то поздно ночью вспыхнула пожаром. Недосмотр Данилы Савчука — старшего пастуха из Лукашивки и временно исполняющего обязанности старосты церковки — привел к беде. Случайно он позабыл накануне после богослужения погасить одну свечу. Постепенно загорелся стол, огонь перебросился на стены, двери, а ветер, залетевший с Днестра, раздул пламя…
Так случилось, что первым заметил пожар бондарь Менаша, закадычный друг и приятель Данилы Савчука, с которым вместе служил еще в первую империалистическую войну в одном полку и в одной роте, а позже, после революции, — в кавалерии у Семена Михайловича Буденного…
Недолго думая, Менаша поднял с постелей мужчин соседних домов, и, вооружившись ведрами, кишкой-брандспойтом, огромной пожарной бочкой, они дружно двинулись тушить пожар. Вытащив из церкви иконы, хоругви, коврики и все, что еще можно было спасти, стали заливать огонь водой. Пока Савчук прибежал сюда с несколькими соседями, бондарь Менаша уже почти полностью успел погасить пожар. Дабы выручить друга из беды, Менаша на следующее утро взял себе в помощники двух дружков-плотников, столяра и маляра в придачу. Они взялись за ремонт здания. Пришел и Данило Савчук со своими товарищами. Работа закипела. И через несколько дней все было налажено, выкрашено, восстановлено. Помещение выглядело куда лучше прежнего, и Данило, и прихожане были в восторге, не знали, как отблагодарить бондаря Менашу и его соседей.
Читать дальше